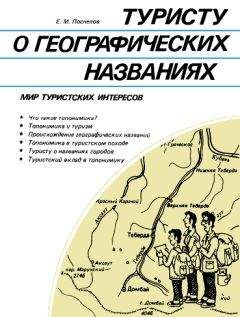После митинга Будберг приказал вызвать своего помощника лейтенанта Лаубаха. Когда тот вошел и вытянулся у двери, Будберг некоторое время оставался стоять у окна, не поворачивая головы. Лаубах осторожно кашлянул, прикрыв рот рукой. Будберг не обратил внимания, сделал вид, что интересуется стенами Федоровского музея с сорванным куполом и разбитой Белой башней.
— Начиная войну с Россией, — наконец, растягивая слова, проговорил Будберг, — фюрер ставил своей целью не только покорить русских, но и покончить с ними как нацией. Вы хорошо знаете это.
— Так точно, — тряхнул белым чубчиком Лаубах, тараща на шефа синие коровьи глаза.
— Но знаете абстрактно, так сказать, теоретически… А конкретно вам бы следовало поразмышлять.
— Я готов, — не очень уверенно произнес Лаубах.
— Это значит уничтожить, стереть с лица земли все, что составляет национальную гордость русских. Нужно вытравить у них память! Народ без истории, без прошлого уже не народ, а стадо, которым легко управлять с помощью кнута. Все, что они делали раньше, должно стать нашим достоянием. — Будберг рукой обвел мраморные колонны и белоснежные бюсты царей и полководцев. — Отныне все это должно стать достоянием Германии. А то, что мы не сможем вывезти, просто-напросто разрушим. Фюрер намерен из Ленинграда сделать пустыню…
Будберг прошелся по кабинету, зябко повел плечами:
— Однако становится свежо. Прикажите денщику затопить камин.
Через минуту Лаубах вернулся с денщиком. Солдат принес дрова и большую пачку старых бумаг для растопки.
— Что это? — Будберг носком сапога разворошил бумагу и поднял лист с царским орлом. — Да ведь это бумаги адмирала де Траверсе! Вы, разумеется, не слыхали о таком, господин лейтенант?
— Это имя мне незнакомо, — подтвердил Лаубах.
Будберг позволил себе улыбнуться краешком губ:
— Русские звали его Иваном Ивановичем. Когда-то он был поклонником короля, после французской революции бежал в Россию. Здесь начал с главного командира черноморских портов. Сначала привел в упадок Черноморский флот, а потом и весь флот в целом. Это когда был морским министром.
— Русским редко везло на умных начальников, — заметил Лаубах.
Будберг повернулся к денщику:
— Макс, откуда вы принесли эти бумаги?
— Из подвала, господин майор. Ребята разворошили там целый склад таких бумаг.
Будберг выразительно поглядел на Лаубаха:
— Немедленно запретите это делать, лейтенант! Если мы говорим об уничтожении, то это не значит, что должны превращать в пепел все подряд. Будберг поднял еще несколько листов гербовой бумаги, быстро пробежал глазами: — Несомненно, русские оставили здесь морской архив. Германии он может пригодиться, как и Янтарный кабинет в здешнем дворце. Вы приступили к его демонтажу?
— Да. Солдаты упаковывают его в ящики.[1]
— Архивы — это та же память. Она хранится не в корке серого вещества, а в документах. По ним, этим архивам, мы докажем потомкам свою правоту. Вы это усвоили, лейтенант?
Лаубах прижал руки к бедрам.
— К сожалению, мне некогда сейчас заниматься архивами. А когда-то я с интересом изучал историю России.
— У вас такое образование! — решил подсластить Лаубах, уже привыкший к разглагольствованиям шефа, и Будберг клюнул на этот крючок, самодовольно кивнув головой.
— В свое время я увлекался работами Гобино, Лапуха, Вольтмана, Шпенглера и Фрейда. Разумеется, не прошел мимо учения Дарвина о роли естественного отбора. В жестокой борьбе за существование выживали только сильные нации. Вы заметили, лейтенант, что в те времена, когда гибли империи Ассирии и Вавилона, германцы уже видели зарю своей истории. Великий Рим, сокрушив Элладу, распространил свое могущество на всю Европу, Северную Африку и провинции Азии. Казалось, не было силы, чтобы одолеть его железные легионы. В Риме не смотрели всерьез на полудикие племена германцев. Но именно эти племена разрушили великое государство. Только в жилах этих племен текла горячая молодая кровь завоевателей. Сыновья библейского Яфета нашли свое идеальное воплощение в германце. И мы должны поднять имя германца на своем знамени.
Лаубах переступил ногами, как застоявшаяся лошадь, скрипнул паркет. Будберг резко повернулся к лейтенанту:
— Вам не по силам маленький экскурс в историю?
— Что вы, господин майор! — воскликнул Лаубах. — Я солдат и готов выполнить ваш любой приказ.
— Кроме беспрекословной готовности, вы должны понять общие идеи.
— Я понимаю…
— Вы свободны. — Будберг сухо простился и подумал: «Этот баварский нетопырь ни черта не понял. Да и не только он. У молодого поколения немцев забетонировали мозги. Где дух, где мировоззрение? Фюрер, к несчастью, недооценивает этого фактора. Для государства руководящей должна стать идея, а не приказ! Марксисты хорошо усвоили это, утверждая, что, когда идея овладевает массами, она становится материальной силой. С идеей легко, удобно и выгодно жить…»
Будберг открыл дверь и позвал денщика:
— Макс, принесите из подвала еще бумаги, пока его не запер Лаубах!
«Любопытно посмотреть, что там еще осталось…»
До самой темноты Головин наблюдал за линией немецких окопов. Особой активности гитлеровцы не проявляли. Судя по реву тракторов и стуку досок, они подвозили строительные материалы. Видимо, сооружали дзоты, укрепляли глиняные стенки окопов, собираясь переждать в них зиму, пока голод не свалит всех ленинградцев.
Невдалеке тихо и односложно перебрасывались словами солдаты боевого охранения:
— Дома как?
— Живы вроде.
— А мои там остались.
— Неужто близко?
— Я по эту сторону проволоки, они по ту…
Головин заинтересовался, спустился с бруствера и подошел к бойцам:
— Кто из вас здешний?
— Я, товарищ младший лейтенант, — подал голос молоденький солдат в новой, необносившейся шинели. Из-под каски высовывались пятачок носа и пухлые, схваченные простудой губы. — Кондрашов моя фамилия. Алексей.
— В Пушкине жили?
— Ага. Здесь у меня батька с дедом остались, а мать с заводом эвакуировалась.
— Батька кто?
— Инвалид после гражданской, а дед совсем не ходок.
— Дом далеко?
Кондрашов вытянул тонкую шею:
— Во-о-он у ветлы…
«А ведь можно что-то придумать», — обрадовался Головин и пошел к командиру роты.
Капитан Зубков ужинал. На круглом столе стоял котелок с жидкой ячневой кашей и кружка чаю.
— Извините, зайду попозже, — смутился Головин.