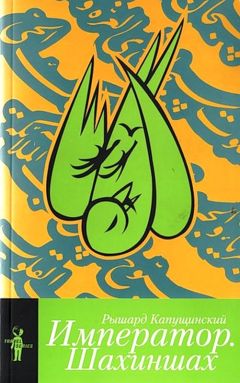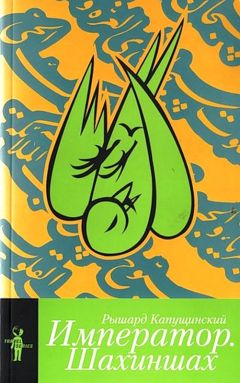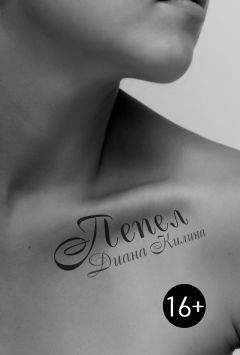Когда я показал своему коллеге то, что пишу о Хайле Селассие, а скорее об императорском дворе и его падении, рассказанное теми, кто заполнял салоны, ведомства и коридоры дворца, тот спросил меня, навещал ли я укрывшихся один? Один? Это было бы невозможно! Белый, иностранец — никто из них не пустил бы меня на порог без надежных рекомендаций. И уж ни в коем случае не пожелал бы исповедоваться (эфиопов вообще трудно склонить к признаниям, они способны молчать, как китайцы). Откуда я узнал бы, где их разыскать, кем были и что могли рассказать?
Нет, я был не один, а с проводником.
Ныне, когда он мертв, я могу назвать его имя: Теферра Гебреуолд.
Я приехал в Аддис-Абебу в середине мая 1963 года. Через несколько дней здесь должны были собраться президенты независимой Африки, и император готовил столицу к приему гостей. Аддис-Абеба в тот период представляла собой большую, полумиллионную, деревню, расположенную на холмах, среди эвкалиптовых рощ. На газонах по главной улице Черчилль-роуд паслись стада коров и коз, и машинам приходилось останавливаться, когда кочевники перегоняли через проезжую часть испуганных верблюдов. Шел дождь, и в боковых улочках машины буксовали в липкой коричневой грязи, погружаясь все глубже и образовав в конце концов целые колонны увязших, неподвижных автомобилей.
Император понимал, что столица Африки должна выглядеть значительно импозантнее, и повелел возвести несколько современных зданий, а также привести в порядок главные городские магистрали. Увы, строительство растянулось до бесконечности, и когда я смотрел на возвышавшиеся в различных точках города строительные леса и занятых там людей, мне вспоминалась сцена, которую описал Ивлин Во, приехавший в 1930 году в Аддис-Абебу поглядеть на коронацию императора:
«Казалось, будто к постройке города приступили только сейчас. На каждом углу виднелись незавершенные здания. Некоторые из них строители уже покинули, возле других работали толпы оборванных туземцев. Как-то днем я наблюдал, как во дворе, у парадного входа, два-три десятка человек под началом мастера-армянина разбирали груды щебня и камней. Требовалось наваливать щебень на деревянные носилки, а потом сбрасывать его на насыпь пятьюдесятью ярдами далее. Мастер с длинной палкой сновал среди людей. Стоило ему на минуту отлучиться, как все замирало. Это не значило, что уборщики усаживались, разговаривали или укладывались на землю, нет, просто они, как коровы на пастбище, замирали в том положении, в каком находились, подчас прямо с кирпичом в руках, погружаясь в летаргический сон. Наконец, являлся мастер, и тогда они опять начинали двигаться, но крайне вяло, как персонажи фильма, снятого методом замедленной съемки. Когда мастер палкой лупил их, они не молили о пощаде, не протестовали, а только чуть проворнее двигались. Но удары прекращались, и движения их замедлялись, а если мастеру приходилось вновь отлучиться, моментально прерывали работу и замирали».
На этот раз на центральных артериях столицы наблюдалось оживленное движение. По самому краю улиц катили гигантские бульдозеры, снося особенно выдвинувшиеся вперед и уже опустевшие мазанки, обитателей которых полиция еще накануне выставила за пределы города. Затем бригады каменщиков возводили высокую стену, чтобы закрыть остальные лачуги. Другие бригады расписывали стену национальными узорами. Город благоухал свежим бетоном и краской, застывающим асфальтом и ароматом пальмовых листьев, которыми украсили триумфальные ворота.
По случаю встречи президентов император устроил пышный прием. На этот прием специальные самолеты доставили из Европы вина и икру. За двадцать пять тысяч долларов из Голливуда привезли Мириам Макэбу, чтобы в заключение пиршества она исполнила гостям песни племени зулу. Приглашено было свыше трех тысяч человек, разделенных согласно иерархии на несколько высших и низших категорий, каждой из категорий соответствовал иной цвет пригласительного билета и иное меню.
Прием происходил в старом императорском дворце. Гости следовали вдоль длинных шпалер императорской гвардии, вооруженной саблями и алебардами. Трубачи, освещенные прожекторами, исполняли на вершинах башен императорский хейнал. Труппы актеров на портиках разыгрывали исторические сцены из жизни умерших монархов. С балконов гостей осыпали цветами девушки в национальных одеждах. Небо озарялось бенгальскими огнями.
Когда в Большом зале гости уже расселись за столами, ударили фанфары и вышел император; по правую руку от него шествовал Насер. Они составляли удивительную пару: Насер, высокий, крупный, властный, с выдвинутой вперед головой, с улыбкой, игравшей на широких щеках, а рядом щуплая, даже болезненная и уже подточенная годами фигура Хайле Селассие; но на его худощавом живом лице сверкали огромные, проницательные глаза. За ними попарно выступали остальные главы государств. Зал встал, все аплодировали. Последовали овации в честь единства и в честь самого императора. Потом началось собственно пиршество. Один темнокожий официант приходился на четверых гостей (у официантов от нервотрепки и волнения все валилось из рук). Столы были сервированы серебром в старом харэрском стиле, на них лежало несколько тонн дорогостоящих антикварных серебряных вещей. Кое-кто рассовывал столовые приборы по карманам: один прихватывал ложку, другой — вилку.
Повсюду высились гигантские горы мяса и фруктов, рыбы и сыров. Многослойные торты были облиты сладкой и яркой глазурью. Изысканные вина распространяли разноцветное сияние, освежающий аромат. Играла музыка, а разряженные шуты кувыркались, к радости развеселившихся участников пиршества. Время проходило за разговорами, смехом и едой. Здорово было!
Во время банкета мне потребовалось удалиться в более укромное место, но я не знал, где оно. Через боковую дверь вышел из Большого зала во двор. Стояла темная ночь, сеял мелкий майский, но холодный дождь. От самых дверей начинался пологий спуск, а на расстоянии полусотни метров виднелся плохо освещенный навес. От двери, из которой я вышел, до этого строения стояла цепочка официантов, которые подавали друг другу блюда с остатками пиршества. На этих блюдах на весу двигался поток костей, огрызков, недоеденных салатов, рыбьих голов, мясных объедков. Я последовал туда, скользя среди грязи и разбросанных повсюду ошметков.
Возле навеса я заметил, что тьма, простирающаяся за ним, колышется и что-то такое в этой тьме движется, бормочет и хлюпает, издает вздохи и чавкает. Я обогнул навес с тыла.
В густоте ночи, в грязи, под дождем, топталась плотная толпа босых нищих. Мойщики посуды швыряли им из-под тента объедки. Я глядел на толпу, которая деловито и сосредоточенно поедала огрызки, кости, рыбьи головы. В этом сотрапезничестве ощущалась сконцентрированная, деловая собранность, несколько убыстренный и самозабвенный биологический процесс, голод, утоляемый с напряжением, в натуге, в экстазе.