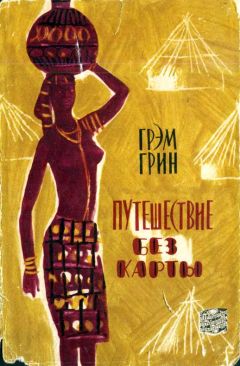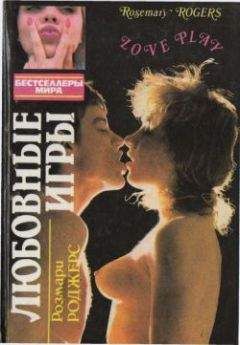Носильщики были в пути всего полдня, но они поели до выхода из Зорзора, и атмосфера была накаленной. Они дулись и не подходили к моей хижине, а Бабу и Ама громко и сердито с ними переругивались. Я уже больше не был патриархом для моих носильщиков, я стал для них дурным хозяином; у нас возникла вражда, которой надо было дать выход. Нервы у меня были натянуты из-за того, что я не знал, с какой жалобой они ко мне придут и когда это произойдет; но хуже всего было то, что я не мог выйти из себя, я должен был казаться веселым и внешне сохранять хорошее расположение духа, вместо того чтобы как следует их выругать.
После полудня я лег, но заснуть не мог. Перед заходом солнца, когда я обтирался губкой, стоя в жестяной ванне, в хижину вошел Амеду. Он заявил:
— Работники говорят, они хотят больше денег. Масса пусть говорит «нет».
Произнес он это тоном образцового камердинера. Он советовал, как держать себя во время бунта, с тем спокойствием и твердостью, с какими Дживс рекомендовал Берти Вустеру[34] надеть тот, а не иной галстук. Но иногда мне бывало трудно ему угодить: его положительность, честность и несокрушимая преданность требовали от меня в ответ слишком многого. Я должен был вести себя как надежный хозяин в том царственном смысле, в каком он понимал надежность. Он служил у окружных комиссаров, и в сознании его не укладывалось, что можно обращаться с носильщиками иначе, чем начальственно. Когда в последнюю неделю нашего похода моральную слабость проявил даже Амеду, я почувствовал просто облегчение.
Мне не хотелось вылезать из ванны; меня смущало, что Амеду осудит мое поведение, если я уступлю, это было куда проще, хоть и роняло мое достоинство. Ведь в конце-то концов носильщики получают позорно мало. Мне пришлось все-таки выйти, сесть за стол, сделать вид, будто я пишу дневник. Я видел, что они наблюдают за мной и готовят мне удар. Я чувствовал себя, как муха, на которую нацелена хлопушка. Наконец, Колиева вышел вперед, и к нему один за другим присоединилось еще пятнадцать носильщиков. Я не думал, что Колиева будет среди них. Он был смущен, и это облегчало мое положение; вид у него был неестественно хмурый и чрезмерно заносчивый; толстая нижняя губа отвисла, он постукивал себя по ноге палкой и говорил хриплым голосом. Он один из бунтовщиков знал хоть несколько слов по-английски. Перебирая в уме забастовщиков, я подумал о том, что без них, если мне придется в каждом поселке нанимать новых носильщиков и платить им по официальной таксе, я не смогу совершить того, что задумал. Стоит им проявить твердость, взять расчет и бросить нас — и мы вынуждены будем двинуться через лес напрямик к Монровии. Но даже и на это у меня может не хватить денег. Если бы они только знали, что все козыри у них на руках!
Колиева заявил, что они желают со мной поговорить. Они хотят больше денег. Я сделал вид, будто не понимаю его. Я сказал, что согласен одолжить им понемногу денег в счет их жалования. Ванде уже взял шесть пенсов в Зигите. Сколько они хотят? Колиева смутился еще больше; он сказал, что официальная ставка носильщика шиллинг в день. Он, конечно, был совершенно прав: настоящей платой был шиллинг, хотя, по-моему, законно нанимать людей на долгий срок и за меньшую сумму; к тому же никто в Либерии никогда не платит положенной ставки, не считая нескольких неудачливых путешественников, нанимавших носильщиков от одного поселения до другого. И уж во всяком случае этого не делают правительственные чиновники, которые обычно берут носильщиков совсем бесплатно.
Я сказал, что в официальную таксу не входит питание, а я их кормлю. Они не сумели мне возразить, что их пища обходится мне не больше, чем по два пенса в день на брата, и стояли кругом насупившись, в сущности говоря, вовсе не прислушиваясь к разговору. Стоило ли перечислять выгоды их положения? По правде сказать, все выгоды были на моей стороне: я их эксплуатировал, как и все другие хозяева; их нисколько бы не утешило, знай они, что я не в состоянии их не эксплуатировать и что я немножко этого стыжусь. Я делал вид, что растерян и не понимаю, чего они от меня хотят, мы ведь договорились… Я попросил позвать Ванде, и когда тот пришел, спросил его, о чем идет спор; Ванде объяснил, что они не соглашаются работать за три шиллинга в неделю.
Тут я попытался их припугнуть. У меня не было другого выхода. Они загнали меня в угол. На моей стороне были Бабу, Ама и, конечно, мои слуги; казалось, что с нами и Ванде — по тому, как он разговаривал с бунтовщиками; впрочем, я не понимал ни слова на языке банде. Я сказал:
— Объясни, что они могут идти домой. Я с ними расплачусь, но подарков они не получат, а я здесь найму новых носильщиков.
Он с ними поговорил, они на него покричали, казалось, все это никогда не кончится, но потом он улыбнулся. Он сказал:
— Они не хотеть уйти.
Настал момент нанести удар посильнее. Заводилой у них, по-видимому, был Колиева; я приказал ему уйти. Я с ним расплачусь. А сам мечтал только об одном: как бы их удержать еще недели на две! Тогда они попадут в места, в такой же мере незнакомые им, как и мне; там уже им трудно будет бежать; мои люди не захотят получать расчет в таких местах. Но я победил: Колиева, пристыженно ухмыляясь, признал, что они были неправы, и через минуту все уже смеялись, шутили, как будто между нами и не было никогда разногласий; они были точно дети, которые пытались выпросить лишний день каникул, но, получив отказ, ничуть не обиделись, потому что всерьез и не рассчитывали на успех. Спор этот разрядил атмосферу; еще два дня продолжались беспрерывные стычки, которые совершенно выводили из себя, а потом внезапно все наладилось и пошло как по маслу.
Ванде спросил, можно ли им зарезать ягненка, которого мне подарили в Кпангбламаи, и этот способ отпраздновать примирение показался мне как нельзя более подходящим. Я дал согласие, не ожидая, что заклание произойдет тут же, перед хижиной; но ягненочка распластали на земле, держа его за ноги, полоснули ножом по горлу, отчаянный крик захлебнулся в хлынувшей крови. Ягненок долго умирал, кровь струилась по земле, стояла лужицами на сухой, не впитывавшей ее глине, покуда совсем стемнело и кто-то за оградой хижины вождя затряс трещоткой. Но до чего же хорошо было сознавать, что тебя не бросят!
Бамакам
На следующий день дела наши пошли хуже. Мы отправились в семь часов утра, взяв в Коинье проводника, но тропа была тяжела для носильщиков, и они с моим двоюродным братом сильно от нас отстали. Мы шагали по лабиринту из узеньких тропок, пейзаж медленно менялся у нас на глазах: заросшие лесом холмы Либерии постепенно выравнивались в плоскогорье, покрытое слоновой травой высотою в два человеческих роста; это плоскогорье, по моему представлению, тянется на север к тем горам, которые Мунго Парк[35] назвал горами Конг, и дальше до реки Нигер. На одной из этих узеньких тропок мне повстречалась единственная лошадь, которую (не считая костлявой клячи во Фритауне) я видел в Западной Африке; на ней сидел старый мандинго в тюрбане, с белой бородой и глядел, как мы пробираемся сквозь траву. За ним шел мальчик и нес на голове все их имущество. По-видимому, старик ехал издалека, может быть даже из Сахары.