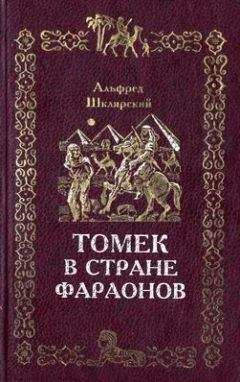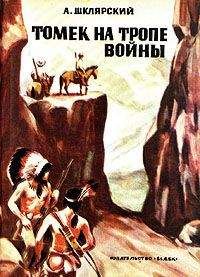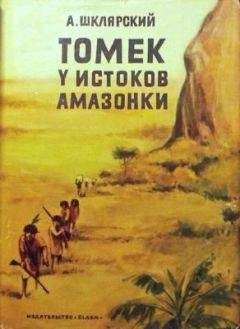Среди ссыльных, разбросанных отдельными группами вдоль южного берега Байкала[60], шла оживленная агитация в пользу побега. Густав Шрамович считал, что выхода нет: придется либо "подыхать как скот от непосильной работы", либо попытаться освободиться, а в случае неудачи погибнуть с честью с оружием в руках. К сожалению, среди ссыльных не было единомыслия. Нашлись даже предатели. Поэтому Целинский, избранный вождем восстания за его боевое прошлое, решил воспользоваться удобным случаем и отдал группе ссыльных в Мурино приказ начать борьбу. Это произошло в начале июля, в ночь с пятницы на субботу.
Приказ Целинского поднял арестантов еще в нескольких местностях. В Лиственной Шрамович, а в Култуке - Арцимович разоружили стражников и направились вдоль Байкала на соединение с группой Целинского. В качестве арьергарда они выслали вперед восемьдесят кавалеристов во главе с Леопольдом Эльяшевичем. Адъютантом у Эльяшевича состоял Эдвард Вронский, гимназист из Вроцлава, настоящая фамилия которого была Сконечный. По пути в Мишиху отряд Эльяшевича встретил командира конвойных войск полковника Черняева и инженера Шаца, руководителя работ. Эльяшевич взял обоих в плен. Бывшие при них деньги он конфисковал, выдав пленным квитанцию с подписью: Сибирский легион свободных поляков. И тем самым выдал название польской военной организации.
Эльяшевич вскоре объединился с группой вождя восстания Целинского, но тот, не имея возможности слишком долго ждать прихода Шрамовича с пехотой, приказал Эльяшевичу немедленно занять Посольск. По дороге Эльяшевич встретился с русским отрядом под командованием поручика Керна. Поляки потеряли нескольких человек убитыми, часть попала в плен. В Посольск прибыли русские подкрепления под командованием майора Рика, поэтому Эльяшевич отступил в Мишиху, куда вскоре подошел и Шрамович во главе двухсот, плохо вооруженных, пехотинцев. В этих условиях рискованно было пойти на решительное сражение. Целинский советовал вернуться в Култук, где не было русских войск, и оттуда направиться к китайской границе. Повстанцы не приняли его план, так как считали, что русские уже заняли все местности на южном берегу озера. Целинский сложил с себя полномочия, и командование повстанцами взял на себя Шрамович.
Известие о восстании быстро дошло до русских властей в Иркутске, которые со всей энергией стали собирать силы для его подавления. Желая возмутить население против восставших, они распространили ложные слухи о том, будто бы взбунтовавшиеся арестанты намерены уничтожить русских и туземцев. Таким образом, кроме русских войск, против горсточки поляков обратилось местное население. Повстанцы попали в окружение. Во главе небольшого отряда Целинский попытался перейти китайскую границу. Шрамович у которого осталось всего лишь сто пятьдесят человек принял решительное сражение под Мишихой. Истратив патроны, повстанцы бросились в рукопашную, но все же, в конце концов, были вынуждены отступить в тайгу. Рассредоточившись, они пытались небольшими группками пробиться в Китай. Донельзя измученные, истощенные голодом, они попали в руки русских войск.
- Бедняги, разве они не знали, что должны проиграть эту неравную борьбу? - перебил его Томек, тяжело вздохнув.
- А что случилось с теми, которые попали в плен? - спросил боцман.
Красуцкий насупил брови, словно пытаясь что-то вспомнить, и ответил:
- Вы, господа, найдете лучший ответ в стихотворении, написанном одним из поэтов в честь польских повстанцев с берегов Байкала[61]. Послушайте, пожалуйста:
"Лучше уж пуля, чем жизнь такая!"
Решили, восстали, страх разогнали!
В руках берданки. Страна родная
Их не дождется - в слезах, в печали!
В глуши таежной - голода муки.
Лишь тот был счастлив, что пал в сраженьи!
А им? - Им выпало пораженье,
Опять сковали оковы руки.
И суд неправый... И строй пехоты...
И залпы - первый... третий... четвертый!
Боцман достал из кармана клетчатый платок. Стал шумно сморкаться. Томек повернулся лицом к окну, пытаясь скрыть слезы, появившиеся у него на глазах. Смуга вбил в Красуцкого испытующий взгляд, словно хотел до конца прочесть его скрытые мысли. После длительного молчания закурил трубку и сказал:
- Царизм уже не раз применял метод разжигания вражды между завоеванными народами. Впрочем, то же самое делают с успехом и другие государства, ведущие политику завоеваний. Однако, в данном случае, ложь царских чиновников была, видимо, быстро разоблачена. Ведь несчастные узники желали только своей свободы!
- Вы, конечно, правы! Даже жители Иркутска искренне сочувствовали повстанцам. Во время суда обнажилась подлая роль царского правительства, которое обвиняло польских узников в намерении уничтожить русских в Сибири, - признал Красуцкий.
- Как вытекает из стихотворения, к расстрелу приговорили четверых повстанцев, - вмешался боцман. - Что сделали с остальными?
- Из семи человек, приговоренных к смерти, расстреляли четверых: Шрамовича, Целинского, Рейнера и Котковского. Около четырехсот человек приговорили к многолетней или даже вечной каторге, некоторых отдали под надзор полиции.
- Как был приведен в исполнение приговор? - спросил Томек.
- Казнь состоялась близ берегов Ангары у подножия диких гор, на предместье Ушаковка. Несмотря на то, что стояли морозы и туманы, жители Иркутска собрались в пригороде. Не было только поляков, проживавших в городе. Власти запретили им показываться на улице в течение нескольких дней. Ответственность за поведение поляков была возложена на домохозяев.
- Вот подлецы! - возмутился боцман.
- И все же нашелся человек, который нарушил суровое распоряжение властей. Переодевшись в одежду чалдона, то есть сибирского крестьянина, один из поляков, Болеслав Ольшевский, пробрался на место казни. Он мне рассказал, как все это происходило, - продолжал инженер. - Четверо поляков смело шли на смерть, как и положено героям. Их сопровождал иркутский ксендз, поляк, тоже из ссыльных, Кшиштоф Швермицкий.
Увидев, что у ксендза дрожат руки, Шрамович сказал ему: "Ты, святой отец, вместо того, чтобы поддержать наш дух, и тем помочь нам смело принять смерть от руки этих рабов царизма, дабы показать им, что поляки умеют умирать за свободу, ты сам ослабел и требуешь утешения, потому что у тебя дрожит рука, которой ты должен нас благословить! Выше голову, польский пастырь, молись не за нас, а за будущее Польши! Нам все равно, погибнем ли мы на своей земле за ее свободу, или в изгнании! Идея, которой мы посвятили свою жизнь, не погибнет!"[62]