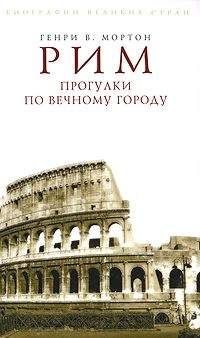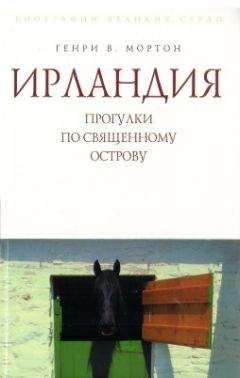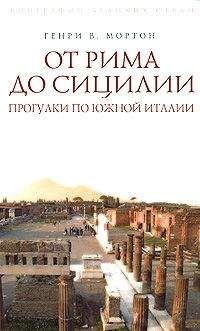Плиний описывает одно модное сборище, возможно, в библиотеке Августа, несчастных приглашенных, которые шли в зал на чтения, как на заклание, некоторым удавалось промедлить, как бы замешкавшись, и подсылавших своих людей — выведать, сколько еще страниц осталось. Наконец, поняв, что «дело идет к развязке, они медленно входили в зал и присаживались на краешек кресла». Сам Плиний был неукротимым оратором, и подобное поведение ему очень не нравилось. Однажды в скверную, сырую погоду он вынудил своих друзей слушать себя два дня, и когда наконец спросил их, не остановиться ли ему, слушатели умоляли его читать и третий день. Как хорошо нам знакомы эти неискренние похвалы и аплодисменты! Мы просто видим Плиния, который, утомившись звуком своего собственного голоса, вдруг прерывается и говорит: «Нет, все-таки я думаю, мне следует сейчас остановиться», — и слышим возгласы несчастных страдальцев: «Нет-нет, дорогой друг, пожалуйста, продолжайте! Мы не хотим пропустить ни слова!» В другой раз он пригласил друзей к обеду, а потом две ночи подряд читал им стихи. Наконец они возроптали и сказали ему, что он плохой чтец. Это очень расстроило его. Он написал другу, спрашивая у него совета. Не следует ли ему заставлять читать вместо себя кого-нибудь из своих вольноотпущенников? И если да, то как ему самому следует вести себя в это время? Сидеть праздно и неподвижно или поддерживать чтеца взглядами, движениями рук, мимикой, возгласами, как это делают некоторые, знаете? Бедный Плиний! Сквозь его иронию проглядывает уязвленное самолюбие.
Современники сообщают нам очень подробно о том, как протекала жизнь писателя, сколько его трудов публиковалось, сколько делали копий. Прочитав свое новое произведение публике, писатель нес его издателю, который держал некоторое количество копиистов. Чтец диктовал текст книги, а переписчики писали его черными чернилами на листах папируса, которые потом скатывались в свитки. Двадцать переписчиков, если они работали по несколько часов в день, несомненно, могли сделать тысячу копий, начисто, за отрезок времени, необходимый сегодня для производства даже самой маленькой книжки. Готовый рулон папируса надевался на валик, называемый umbilicus,[66] и составитель мог в свое удовольствие украшать его края — согnua.[67] Часто рожки бывали очень красиво раскрашены и снабжены золотыми и серебряными шишечками. Можно было также покрасить края папируса, многие книги, как мы знаем, имеют золотой обрез, а заглавие часто висело на рукописи, подобно печати старинного документа, и все это вкладывалось в дорогой футляр под названием membrana.
Я редко видел, чтобы актер на сцене читал древний манускрипт, держа его правильно, то есть чтобы свиток был у него в левой руке, а правой он бы отматывал несколько дюймов, а затем продолжал освобождать следующие дюймы левой и сматывать правой, пока таким образом не дойдет до конца. Чтобы смотать рукопись плотно, удобно было первую страницу прижать подбородком, высвободив таким образом обе руки для отматывания умбиликуса. Если этого не знать, нас, современных читателей, могло бы сильно удивить замечание Марциала: нечитанную книгу он называет «книгой, которую не скреб небритый подбородок».
Автор обычно продавал свою книгу непосредственно издателям, хотя имел право, если захочет, издать ее сам, наняв собственных переписчиков. Но так поступали редко, и это не удивительно. Авторского права тогда еще не существовало, так что кто угодно мог выпустить пиратское издание. Поссориться с одним издателем и быть принятым с распростертыми объятиями другим — это удовольствие было недоступно древнему писателю, так как это было совершенно бесполезно: обозленный издатель всегда мог получить свое обратно. Горация издавали братья Сосии, Марциала — Атрект и Секунд, Квинтилиана — Трифон, Сенеку — Дор. Богатый друг Цицерона Аттик иногда издавал его в роскошных изданиях. Ни один автор не мог прожить на доходы от своих писаний, Марциал вечно ворчал на жизнь литератора и жаловался, что не становится богаче от того, что его эпиграммы читают в Британии, Испании и Галлии, — ссылка на иностранные издания, которая нашла бы отклик в сердцах многих современных читателей.
«Книготорговый ряд» в Древнем Риме располагался в Аргилете, рядом с Форумом. Там находились магазины издателей. Некоторые из них были богато обставлены — как комнаты отдыха, где покупатель мог сидеть и созерцать книги, выставленные по обе стороны дверей. Рукописи хранились на полках, уложенные одна на другую, подобно отрезам материи, так что, возможно, римский книжный магазин на современный взгляд напоминал бы лавку торговца тканями. Не знаю, выдавали ли где-нибудь книги на дом, но библиотеки, в которые можно было прийти за консультацией, точно существовали, и не только в Риме, но и в небольших городках. Авл Геллий рассказывает, как однажды меж почтенных гостей на вилле около Тиволи возник спор о том, опасно ли пить ледяную воду в жаркую погоду. Те, кто считал эту привычку безвредной, усомнились в некоторых цитатах одного из гостей, который в подтверждение своей правоты тут же принес из публичной библиотеки цитату из Аристотеля, который очень не одобрял холодную воду в жару, считая ее опасной для здоровья. Геллий добавляет, что на гостей цитата произвела такое впечатление, что все они решили отныне отказаться отводы со льдом. Меня-то больше занимает не их решение, а вопрос: вернулся ли человек, бегавший в библиотеку, с книгой Аристотеля или он выписал оттуда цитату и принес ее своим собеседникам. А этого Геллий не сообщает.
Я переходил от руины к руине и вышел к приветливому и неожиданному указателю: «Бар», рука на котором указывала в тенистые кущи садов Фарнезе, где под высокими деревьями за пышными изгородями кардиналы когда-то делились своими мирскими тайнами и кипарисы склонялись послушать их. Похожие на привидения высокие деревья, кажется, наделены разумом, будто всосали его из пропитанной историей почвы. Хотя вокруг не было ни души, я то и дело озирался в этом старом саду: не идет ли кто-нибудь следом.
В центре, там, где сходились запущенные аллеи, стоял умиротворяющего вида деревянный домик, который и был тем самым баром. Владелец, кивнув на «веспу», припаркованную у дерева, сказал мне, что летом он приезжает сюда каждый день, и его бар открыт, пока не зазвонят «Ave Mana». Я сел со своим стаканом у изгороди, совершенно поглощенный мыслью о том, что сады Фарнезе посажены на развалинах дворца Тиберия и Калигулы. Здесь никогда не проводилось тщательных раскопок, но в прошлом веке вдруг обнаружили караульное помещение, на стенах которого солдаты преторианской гвардии оставили надписи. Эта привычка стара, как мир. Один солдат написал по-гречески: «Многие писали всякое на этой стене, а я — ничего», на что его товарищ написал: «Браво!» В этом дворце жил Тиберий, когда кто-то — очевидно, из министерства иностранных дел, сообщил ему, что Понтий Пилат «контролирует ситуацию». Здесь проводил свою фантастическую жизнь безумный Калигула, если, конечно, можно верить всему тому, что о нем говорилось.