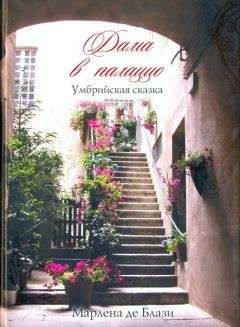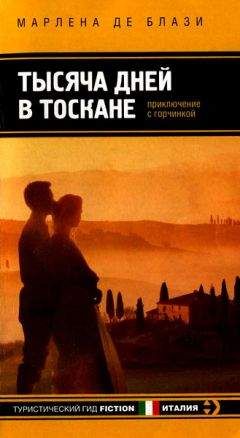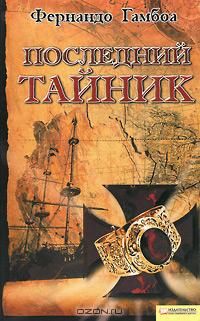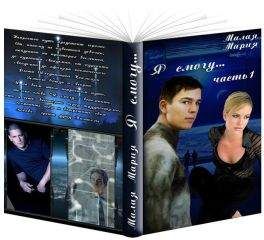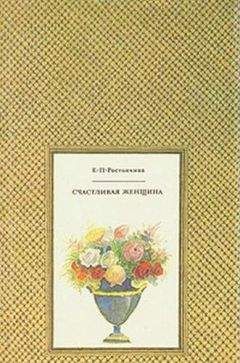Но в глазах Эдгардо мальчишка Неддо значил не больше полевой крысы — будущая пара дешевых рабочих рук. Ему не было дела, что мальчишка принадлежал к четвертому поколению местной семьи издольщиков дʼОнофрио.
Эдгардо не столько оплакивал кончину своего отца, маркиза Джакопо дʼОнофрио, сколько гордился своим новым статусом — нового marchese — и независимостью. Ему было шестнадцать лет.
Итак, в то утро молодой маркиз наблюдал, как мальчишка Неддо, девяти лет от роду, тянет к себе ветвь с персиками, пряча лицо в листьях и налитых солнцем плодах, вдыхая их запах. Он готов был прикрикнуть на мальчишку, которому — как и всем работникам — не дозволялось срывать то, что росло в поле, в саду или в лесу — без разрешения управляющего. Иначе разве можно собрать, взвесить и как положено разделить урожай? Эдгардо не позволил себе закричать: стоял неподвижно и смотрел. Мальчик выпустил ветвь. Но когда она разгибалась, Неддо сорвал с нее один персик, тут же слопал, утер щеки, вытер косточку подолом рубахи и положил ее в карман. Эдгардо все молчал.
Той же ночью или вскоре после того, когда домочадцы спали, новый marchese тщательно оделся, навернул шейный платок под ворот рубахи из толстого шелка, застегнул охотничью куртку отца поверх красивого твидового жилета, тоже отцовского. Низко, набекрень, надвинул шляпу. Он прошел два километра до персикового сада и поджег его. Смотрел, как сгорели под корень деревья. Сжигал ли он свое прошлое, царствование отца? Или маленький голодный мальчишка с единственным румяным персиком так разозлил его, или Неддо со своим персиком просто дал ему повод для ритуала перехода в правящий класс, для акта театральной несправедливости, ставшей символом его правления?
На следующее утро Эдгардо собрал работников и объявил, что из-за воровства Неддо никто больше не попробует персиков с его земли.
Позже, на вопрос матери: «Perche?» — зачем, Эдгардо ответил:
— Это мои персики и мой мальчишка. Ты бы предпочла, чтобы я сжег его?
Это тоже слышал дядя Микеле.
После Второй мировой тирания mezzadria, издолья, наконец рухнула. То было время великого исхода. Исхода крестьян, от нищеты рабства к новой нищете, ожидавшей их на фабриках севера. Большинство землевладельцев предпочли оставить свои поля в запустении, уединиться в просторах своих сельских вилл или вовсе отказаться от сельской жизни ради прозябания в городских фамильных палаццо, отопление которых обходилось дешевле, а прислуга хранила верность. Но кое-кто из аристократов продал свои земли, и притом за бесценок. Неддо купил землю.
Дешево, на деньги, взятые в кредит. Он выращивал табак, потому что эту культуру санкционировало государство и он мог рассчитывать на справедливую компенсацию. На прибыль он купил еще земли, перестроил старый крестьянский дом, послал сыновей в школу в Перуджу. И все эти годы хранил в кармане старую персиковую косточку. Как только позволили средства, Неддо посадил персиковый сад. Заботливо возделывал его и подсаживал новые деревья. А теперь, можно сказать на старости лет, он завел новую традицию для scuole elementare — начальных школ коммун Орвието. День Персиков. Когда плоды созревают, он приглашает детей под присмотром учителей взбираться на деревья и рвать персики. Он особенно любит третьеклассников. Девятилетних.
Однажды Неддо пригласил нас на ужин. И потом еще много раз приглашал на тот же ужин. Толстые, грубо нарезанные ломти хлеба и глубокая белая миска красного вина — вот и все меню. Оно не менялось долгие годы. В первый раз, когда мы пришли посидеть с ним у его огня, он прочитал молитву, пожелал нам buon appetito и тут же принялся макать хлеб в вино и жадно откусывать набухшую розовую мякоть. Временами он поднимал миску, отхлебывал из нее и подливал вина. Отрезал еще хлеба. Мы следовали его примеру. И чем больше я пила и ела, тем становилась голоднее. Я не знала, преднамеренным или случайным было сходство с причастием. Хлеб и вино. Возрождение тела и крови. Со временем я пришла к мысли, что такой ужин утолял в нем, как и в нас, чисто телесный голод. Он рассказал нам, как, когда мог себе то позволить, относил тазик с размоченной в вине хлебной мякотью в стойло, кормил свою кобылу и корову — так же как повитуха с ложечки кормила этой тюрей его жену. Плоть и кровь. Для восстановления роженицы, женщины или коровы. И сидя с ним, макая хлеб в миску вина, я чувствовала, что набираюсь сил, и знала, что никакой другой ужин не насытил бы меня лучше.
ОБ ЭДГАРДОЭдгардо радуется, когда случается что-то плохое. Ссора между его слугами. Война в Косово. Чужие несчастья отвлекают его от собственных. От собственных несчастий, тщательно упакованных, убранных с глаз долой и забытых — или почти забытых. Стыда он не знает — стыд, это для бедных. Эдгардо верит, что он — представитель аристократии, существующей в наши дни в этой части Италии. Он сам превратил себя в бастион против наступления настоящего.
Эдгардо говорил, что грехи знати для него вполне приемлемы, они оправдывались и отпускались al momenta — моментально. История аристократов и их грехи — что в целом одно и то же, обсуждаются только между собой, в тихой гавани за семейным столом или за тяжелой парчой, отгораживающей кровать. Истории и грехи передаются, как столовое серебро. По наследству.
Он сжег персиковый сад и долго жил в Париже, давая матери и остальным родственникам время умереть. Он последний marchese дʼОнофрио. И, как дядюшка Скрудж, знает, что никто не станет его оплакивать. Ему нечего терять, и он спешит повредить другим, пока кто-нибудь не повредил ему.
Будь то рубашка, вилла или тарелка маслянисто блестящих жареных сардин, все, в чем видит красоту, Эдгардо называет michelangiolesco. Микеланджеловским. Жить надо шикарно, любой ценой. В конечном счете, нет ничего, кроме шика. Хорошо одеваться, хорошо путешествовать, хорошо жить, вознестись над i volgari е la loro volgarita — быдлом с их вульгарностью. Это широкое определение к моменту нашего знакомства включало почти всех, кроме Тильды.
Эдгардо знал историю Тильды, знал и ее саму с тех пор, как она вернулась в Орвието. С тех пор, как послал служанку как-то вечером постучать в ее дверь с корзиной фиг. «Как пария к парии, добро пожаловать ко мне на чай по средам в пять часов. Предупреждать заранее не требуется».
Их среды разрослись, включив со временем и воскресный обед. И субботние поездки в Рим, и верховые прогулки по его лугам и лесам у Кастл Джорджо. Впрочем, Тильда оказалась для него слишком хорошей наездницей. Эдгардо любил не столько ездить верхом, сколько наряжаться для верховой езды.
Так же как и к обеду. В отороченном бобровым мехом халате, берете и толстых фетровых шлепанцах, Эдгардо садился за стол, звонил слугам в маленький хрустальный колокольчик, едва касался сухих, как пепел, кушаний, которых требовал для себя и которыми пичкал своих гостей. Своих гостей, принадлежавших в основном к широкому кругу, сохранявшему преданность последнему marchese дʼОнофрио.