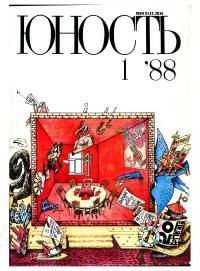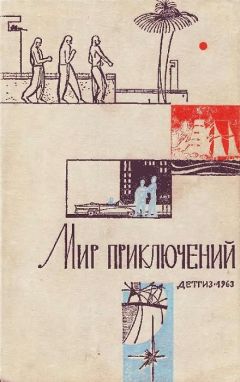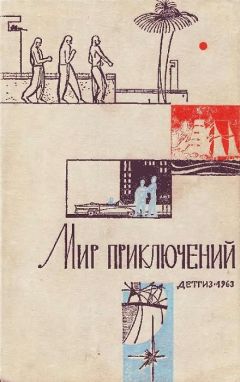Вот, бабуль, как мы весело живем. За нас не волнуйся, мы здоровы. Ты читала Никитину статью от 21 сентября?
Крепко тебя целую.
Твоя Ася».
Никита диктовал по телефону:
«Ученые института плантационных культур в штате Керала, диктую расшифровку — Ксения, Екатерина, Роберт, Алла, Лидия, Алла, — вырастили саженцы-клоны из ткани листьев кокосовых пальм. Обычно кокосовые пальмы на юге Индии дают в среднем до 30 орехов в год. Но встречаются экземпляры, приносящие от 200 до 400 плодов. Получение от этих рекордсменов саженцев-клонов, как полагают ученые...»
Я просматривала утренние газеты и слушала, как Никита читает. Я всегда старалась быть рядом во время диктовки и внимательно следила за каждым Никитиным словом, короче, была для него редактором-выпускающим. Я гордилась. Никита вообще хотел приобщить меня к своей работе — брал с собой на открытие выставок, таскал на митинги, а потом требовал от меня «письменного отчета». Я старалась, пыхтела над каждым словом, как школьница, грызла карандаш и смотрела в потолок. На первых порах все-таки садилась за «домашнее задание», чтобы не огорчать Никиту, который по-настоящему расстраивался, когда у меня не шло дело. Но быстро поняла, что нужно это не ему, а мне самой. Поэтому, когда в газете прошла маленькая заметочка А. Борисовой об открывшейся в Дели экспозиции из Эрмитажа, это стало для нас с Никитой целым событием.
— Вот теперь мы настоящая журналистская семья, — заявил Никита. — Так над чем, коллега, вы сейчас собираетесь работать? — спросил он и дернул «коллегу» за хвост.
Никита кончил диктовать и теперь внимательно слушал, как стенографистка перечитывала текст.
— Спасибо, все правильно. Да, Борисов, Дели. И еще одна просьба, Леночка. Позвоните, пожалуйста, нашим, скажите, что у нас все хорошо, все здоровы, и передайте привет. — Никита улыбнулся чему- то. — Везет же людям, а у нас плюс 34° и дождь стеной... Да нет, это вам только кажется, что благодать. Как в турецкой бане, ходишь постоянно мокрый. Спасибо... Когда вызывать будете? Хорошо, тогда до субботы... — Телефон беспомощно звякнул. — Аськ, отделался легким испугом, два раза не пришлось перечитывать, а то с прошлого раза горло еще болит. Спасибо, связь была хорошая. А в Москве настоящее бабье лето...
Я выглянула в окно. Долгие муссоны, иссякающие уже и истратившие всю свою яростную силу, насытили наконец землю, и оттуда так буйно полезла молодая зелень, что меньше чем за месяц перед окном вырос кусочек девственных джунглей, к которым я очень бережно относилась. В этом «лесу» уже завелись свои обитатели. Самым занятным был подросток- хамелеон, не совсем хорошо понявший, что такое мимикрия и как ею пользоваться. Хамелеончик то ли не набрался еще опыта, то ли не видел никогда настоящих врагов, то ли просто страдал от одиночества и очень хотел, чтобы его заметили. Сидя на ветке и зацепившись за нее мощным закрученным хвостом, он принимал сначала исходный цвет— скромненький серовато-песочный. После этого сразу заболевал желтухой и, когда видел, что на него мало кто обращает внимание, зеленел от злости. Потом он светлел, светлел и вдруг, поднатужившись, заливался румянцем с головы до хвоста, будто стыдясь своего поведения. С зеленым, желтым и красным все было хорошо — хамелеон репетировал этот светофор довольно часто и совершенно без нужды, сидя на скромной темной ветке. Совсем плохо дело обстояло с синим. Это, вероятно, было верхом хамелеоньего искусства и поэтому недоступным молодежи. А малыш честно старался добиться своего — казалось даже, что он пыхтит от напряжения, пытаясь хоть на секунду стать синеньким. Но только бурел, грязнел, изредка голубел какой-нибудь частью тела и уходил, сконфуженный, в глубь листвы. Дождь он не любил.
Колибри, те чувствовали себя совершенно спокойно в дождевом воздухе, ловко увертываясь на лету от крупных капель. Эти подобные бабочкам птицы всегда были при деле — совали длинненький, чуть изогнутый клювик в растущие на деревьях цветы, с большим наслаждением, закатив глазки, пили нектар и так же бесшумно и легко перелетали к другому цветку. В отличие от мучающегося дурью хамелеона эти крошки выглядели вполне работящими.
Я смотрела в окно на этот «мир животных» и мечтала, что вдруг подойду как-нибудь к окну, а в садике под зонтиком сидит на мокром плетеном стульчике Дроздов или там еще кто и говорит: «Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас есть хорошая возможность познакомить вас с представителями отряда пресмыкающихся...» — а сам неловко так держит в руках кобру или удавчика, зажав зонтик, как телефонную трубку, между плечом и ухом...
Темнело быстро, почти моментально, и был едва заметен переход от дня к ночи. В этом было что-то ужасное, скорее сверхъестественное, и в первые минуты темноты все живое вокруг — и деревья, и люди, и святые коровы — утихало на мгновение, как бы примериваясь к новому состоянию, физически ощущая темноту. А через минуту сказочное оцепенение проходило, чтобы прийти на следующий день с новым солнечным затмением. Небо давило, фиолетовое, густое, душное, не дающее вздохнуть полной грудью, но заслонившее такое жаркое солнце.
Машина свернула с главной улицы и поехала по переулку, уступая дорогу возвращавшимся с работы раджахстанцам. Они были из касты неприкасаемых, но до того красивы, ярки и веселы, что хотелось непременно их коснуться. Зубы сверкали в темноте, монисто и серебряные браслеты на босых ногах тихо позвякивали, широкие цыганские юбки колыхались при ходьбе. Большая толпа состояла почти целиком из женщин и детей, хотя работа была совсем не женской — рядом, за поворотом, шла стройка, и эти пятнадцати- и двадцатилетние женщины носили на голове кирпичи, привязав ребенка за спину. И делали это с такой грацией, что, казалось, несут на голове не двенадцать кирпичей, а изящный серебряный кувшин. Женщины шли, смеялись, покрикивали на детей и махали, как в цыганских танцах, невозможно яркими юбками. Дети пяти-шести лет, невыразимо чумазые и лохматые, обвешанные малолетними братьями и сестрами, хохотали и бежали за машиной.
Недалеко от дома по дороге плелся индиец, стараясь держаться тени. Он был старым, согнутым, каким-то обшарпанным и потрепанным. В руке у него был чемоданчик, наверное, приходящийся ровесником самому хозяину. Через каждые три-четыре шага старик останавливался и громко, но хрипло кричал какую-то длинную фразу. А потом с тоской заглядывал во двор и, подождав несколько секунд, шел дальше, самозабвенно крича, видно, что-то очень важное.