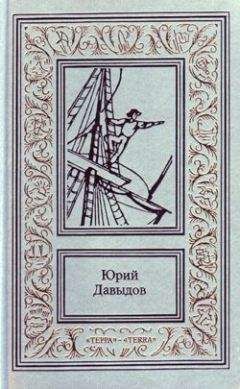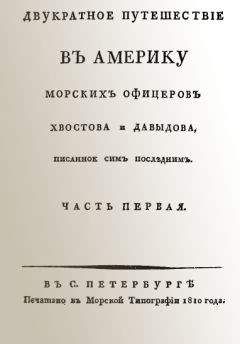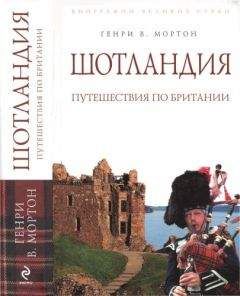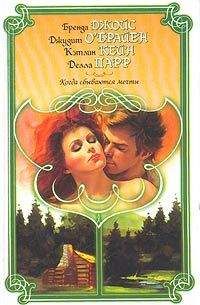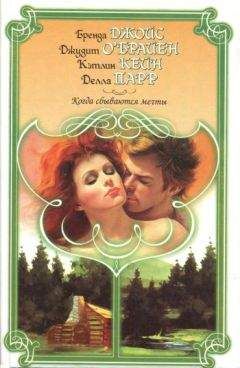– Чужестранец! – провозгласил Ндорума, и взбудораженная толпа стихла. – Чужестранец, на моей земле ты найдешь покой и кров. Мы примем тебя братски. Если тебе нужна хижина, ты получишь хижину, если тебе нужна жена, ты получишь жену, если тебе нужна пища, ты получишь пищу.
Когда вождь умолк, настал черед колдуна-бинзе. Что скажут духи о чужестранце? К добру иль худу явился белолицый человек?
Старик колдун был увешан амулетами из звериных клыков, какими-то палочками и камешками. Длинные петушиные перья, черные и красные, колыхались над седой головой.
От духов зависело многое. Колдун мог испортить всю обедню. Но тут Василий Васильевич приметил, что старик многозначительно косится на еще не распакованные тюки. Перехватив взгляд колдуна, Юнкер подмигнул ему и успокоился. «Экий меркантильный маг», – иронически подумал путешественник и стал смотреть, что будет дальше.
Тамтамы ударили торжественно и мерно. Все расступились, и старик колдун пошел кругами – медленно, плавно, сытым коршуном. Тамтамы участили ритм, колдун убыстрил пляску. Амулеты на груди загремели, как галька в час прибоя, петушиные перья метнулись, как верхушка пальмы при порыве ветра.
Все чаще, все громче, все грознее били тамтамы. И все быстрее плясал колдун. Плясали его руки, ноги, скулы, все его жилистое, выдубленное солнцем тело, обвешанное палочками и камешками. Глаза прорицателя налились кровью, он покрылся потом. А тамтамы били уже в бешеном крутящемся темпе, завораживая, гипнотизируя толпу, заставляя всех притопывать, вскидывать плечи, поводить бедрами.
И разом смолкли тамтамы. Тишина рухнула на толпу, как тяжелый шатер, у которого подрубили деревянные стойки, тишина накрыла людей, и было слышно, как с присвистом и хрипом дышит старик колдун. Закатив глаза, налитые кровью, он распростерся на земле, прижал к ней ухо. Лопатки у колдуна ходуном ходили, ребра вздымались и опадали. Колдун слушал духов. Никто не двигался. Все словно бы оцепенели в страхе. И даже Юнкера пробрала нервная дрожь.
Наконец колдун поднялся, пьяно шатаясь. Стрельнул глазами на тюки и заговорил.
Духи, оказывается, вполне благосклонны к белому пришельцу. Пусть, вещают духи, белый пришелец останется здесь, в стране азанде. Юнкер слушал и прикидывал, чем отплатить «доброжелательным» духам…
На другой день географ обратился в строителя. Он мерил шагами расстояния, вбивал колышки, толковал жителям, где строить хижину, где складское помещение, где навес для просушки вещей, где следует разбить грядки под огород. И где возвести высокий плотный тын с затворяющимися воротами: не велика радость, ежели ночью ворвется леопард да и задерет тебя, спящего…
Тут, близ Уэре, в этой лесостепи, будет его маленькая усадебка, приют труда и отдохновения. Отсюда он будет уходить в дальние экскурсии и сюда будет возвращаться, чтобы обработать коллекции, пополнить записи, вычертить планы местности, нанести на карту маршруты.
Василий Васильевич спешил. Все надо было устроить до наступления затяжных тропических дождей. Носильщики, нанятые в Хартуме, доставили в саванну не только табак и материи, но топоры и пилы, молотки и гвозди. Азанде все это было в диковину. Пришлось Василию Васильевичу учить их плотничать. Сказать по чести, географ наш никудышным был мастеровым. Подтрунивая над собой и осторожно дотрагиваясь до волдырей на ладонях, он должен был сознаться, что ученики куда способнее учителя.
А время дождей начиналось. Дожди падали прямые и толстые. Они скрадывали дали, наполняя их равномерным шумом; чудилось, что денно и нощно жужжат десятки веретен. Юнкер укрывался от непогоды в хижине вождя Ндорумы. Ветер тряс лиственницы, кусты на берегу Уэре, шуршал по кровле. Василий Васильевич сидел нахохлившись, ощущая ломоту во всем теле, жар, круженье головы: возвращалась проклятая лихорадка.
О, как он обрадовался, когда его усадебка была наконец готова! Он вошел в просторную хижину и почувствовал упоение бродяги, сделавшегося домовладельцем. Он оглядел балки, стены, обмазанные глиной, и хижина показалась ему прекраснее петергофской дачи.
Он постарался растянуть удовольствие. Долго выбирал место для письменного стола (стол этот, впрочем, ничем не отличался от обеденного), разложил на полке готовальню, геодезические инструменты, поставил жестяной ящик, в котором сберегал от прожорливых термитов дневник и карты. На столбе, подпиравшем середину крыши, вбил крючки, повесил ружья, москитные сетки. Застелив койку, достал книги, придвинул к столу два раскладных креслица… Постоял, огляделся… Ну вот, как будто все… Сел и блаженно затянулся сигарой.
На дворе дождь крутил незримые веретена, шумел, жужжал. Но теперь черт с ним, с дождем. Даже уютнее как-то. Василий Васильевич раскрыл жестяной ящик. Из ящика приятно пахнуло сухой бумагой. Так пахло в кабинете с окнами на Финский залив. Юнкер полистал беглые свои записи. Он вел их на пути из Хартума, с берегов Голубого Нила сюда, к водоразделу Нила и Конго. Беглость записей была неприятна Василию Васильевичу: неосновательность всегда раздражала. Пора привести записки в порядок. И положить на точную карту пройденный маршрут: от Хартума до… Ну да, до вот этой усадебки на берегу реки Уэре. Но тогда надо окрестить усадебку. Негоже ей быть безымянной.
Василий Васильевич перебрал несколько названий и отверг их. Он сидел в приятном раздумье. Будто внезапно, а в сущности потому, что он нынче припомнил петергофскую дачу, всплыли перед мысленным взором нежаркие летние утра, увидел он сад и увидел, как мама ухаживает за цветами, напевая трогательный романс Стигелли «Лакрима». Ах, «Лакрима», «Лакрима»… Он улыбнулся, покачал головой: экая сентиментальность… А впрочем, не такой уж большой грех – малая доза сентиментальности. И решил: его усадебка, его станция будет названа «Лакрима».
Стэнли помирал со смеху. Бельгиец майор Либерехтс вторил тенорком. Лейтенант Гилл, малый лет двадцати с лишним, прыскал в ладоши. И даже мрачноватый пароходный механик Ден скалил зубы. А человек корчился, будто змеей укушенный, хватал воздух разинутым ртом.
Чертовски остроумный малый лейтенант Гилл! Дикарь клянчил у него нюхательного табачку, а лейтенант сунул ему горсть перцу. Черномазый не раздумывая запустил в ноздри добрую понюшку, и вот – полюбуйтесь-ка на его обалделую рожу.
Четверо белых сидели у костра. Они сидели в стороне от других костров, где грелись зябкие занзибарцы. Неподалеку на темной реке светил фонарь колесного пароходика, ветер нес на берег запах нагретого металла и машинного масла. Ах, этот запах далекой Европы, он хоть немного отгоняет сырую жуть джунглей.