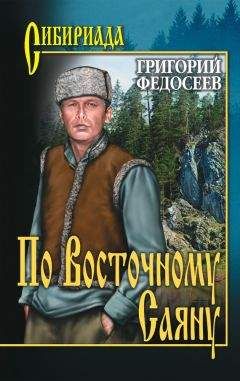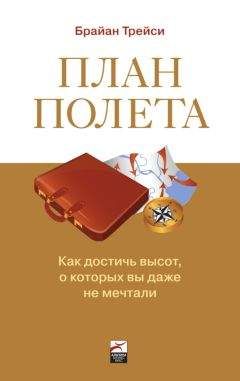Для чего же нужен медведю такой большой запас жира? Не проявила ли природа к нему излишней щедрости? Конечно, нет. Во время спячки жир служит изоляционной прослойкой между внешней температурой и температурой внутри организма.
Как только медведь покинет берлогу и организм его воспрянет от оцепенения, а это обычно бывает в апреле, сразу же восстанавливается деятельность всех его функций и появляется большая потребность в питательных веществах. Но где их взять? Кругом еще лежит снег. Взрослого зверя: сохатого, сокжоя или кабарожку – трудно поймать, а телята появляются на свет только в конце мая – начале июня, да и птиц ему не скрасть, для этого он слишком неуклюж. Растительного же корма еще нет. В желудке убитых в апреле и мае медведей обычно находишь личинок, червячков, муравьев, корешки различных многолетних растений и даже звериный помет. Но разве может такой пищей он прокормиться? Да и разоренные им норы бурундуков, где иногда удается достать две-три горстки ягод или кедровых орехов, не спасли бы медведя от голодовки без осеннего запаса жира.
Василий Николаевич приехал на трех нартах. Мы разложили на них мясо, увязали и тронулись в обратный путь. Бойку пришлось нести на руках до реки. Кучум, прихрамывая, плелся сзади. Над лесом, каркая, летели к выброшенным кишкам две вороны.
В лагере праздник. Все ожили. Даже Афанасий вышел из палатки встречать нас. Он улыбается, болезненно растягивая губы, скованные коркой.
Вечер вкрадчиво спускается со склона гор. Гаснет за горизонтом свет. Исподтишка ершится ветерок. На востоке одинокая туча прикрыла космами вершины. Большой костер ввинчивает в плотное небо сизую струйку дыма. На таганах, в закопченных котлах, варится свеженина, тут же на деревянных шомполах румянится шашлык. Мы все сидим возле огня, глотая сочный запах, и следим за Василием Николаевичем – «главным дирижером».
Наконец ужин готов, и все идут в палатку.
Старики едят быстро. В левой руке мясо, в правой острый нож. Зубами захватят край куска, чиркнут по нему ножом возле губ, глотнут. Рука еле поспевает закладывать, отрезать. Мясо почти не пережевывают. Словно зубы предназначены у них для другой, более сложной работы: нужно ли подтянуть потуже подпруги на олене, развязать узел на ремне, протащить сквозь кожу иголку или что-нибудь оторвать, отгрызть – все это старики обычно делают зубами. В этой привычке и ловкости, с какой работают у них челюсти, есть что-то первобытное.
Рядом со мною сидит Улукиткан, роясь заскорузлыми пальцами в своей чашке. Мяса много, оно жирное, глаза старика отдыхают, млея над теплым медвежьим паром. Ест он без хлеба, поспешно отрезая и глотая куски. Устанет – передохнет, отдышится, хлебнет из блюдца горячего жира, и снова у губ заработает нож.
– Эко добро медвежье сало: сколько ни ешь – брюху не лихо, – говорит старик, слизывая с блюдца жир.
Лиханов от него не отстает. Он высасывает из костей сочный мозг, глаза размякли, посоловели; засаленная бороденка лезет в рот. Афанасий разбинтовался, так вольнее. Он черпает кружкой жир из котла, пьет его, процеживая сквозь больные губы, и с завистью поглядывает на стариков.
Все они едят много, отяжелев, валятся на бок и полулежа еще доскабливают, обсасывают кости. Затем пьют чай, разговаривают.
– Уже десятый час, пора спать, завтра рано подъем, – предупредил я.
– Эко спать, после жареного мяса сна не жди, – заметил Улукиткан.
Василий Николаевич принес в палатку больную Бойку, покорную, с печальными глазами, и сейчас же в щель просунулась голова Кучума. Умное животное следило за нами, будто ему интересно было знать, что же мы намерены с его матерью делать. Но как только Бойка начала визжать, биться в руках, он поспешно убрался.
Мы выстригли вокруг раны узенькую полоску шерсти, промыли йодом и уложили Бойку спать.
Ночью сквозь сон я слышал разговор в палатке проводников, хруст костей и причмокивание губ. Старики продолжали ужин.
Утром пришлось задержаться: долго искали оленей. День солнечный. Лес слабо шумел. Пахло отогретой хвоей. Над брошенной стоянкой горбилось белое облачко, присосавшись к боковому отрогу и уронив легкую тень на наш след.
Кокур – небольшая речка, образующаяся от слияния многочисленных ручейков, сбегающих с крутых склонов Станового и Джугдырского хребта. Километрах в десяти ниже перевала она течет узким руслом, въедаясь в угрюмые отроги, преградившие ей путь к Мае. Горы не расступились, а скалами повисли над щелью, по дну которой течет Кукур.
Мы ехали по льду реки. Солнце и, кажется, само небо прятались за скалами. Нас встретила промозглая сырость, никогда не продуваемая ветрами. Малейший звук, зародившийся в тишине ущелья, сразу усиливался, множился, отражаясь от ворчливых скал. Олени, подбадриваемые криком проводников, бежали дружно, отбивая копытами дробь.
Остались позади бесчисленные кривуны и разнообразные ансамбли скал. Но край ущелья еще не виден. Пейзаж скучный. Высокие стены скал, словно гигантские занавеси, исписаны скупым рисунком долговечных лишайников. Редко где увидишь карликовую березку или прутик багульника, поселившегося на холодных уступах скал. Неожиданно мы вспугнули двух черных воронов. Их присутствие в этой глубокой щели озадачило нас. Рядом светлая долина, где много солнца и есть где разгуляться крыльям, но птицы живут здесь, предпочитая мрак, застойную сырость, а летом к тому же и несмолкаемый грохот реки.
Но вот скалы раздвинулись, пропустив в ущелье свет солнца. Весело заиграли бубенцы на передних упряжках. Километров через десять, наконец-то, показался берег Маи. Тут мы и заночевали.
Река Мая в верхней части протекает по плоской и сравнительно широкой долине, затянутой смешанным лесом, преимущественно лиственничным. Горы здесь пологие, с хорошо разработанными лощинами. Зато дальше, отступая от реки, виднеются громады угловатых гольцов. Кругом нерушимо лежит зима, и только лес шумит не по-зимнему, напоминая о недалеком переломе.
Утро застало нас в пути. Из-за правобережного хребта грузно поднимались взбудораженные ветром тучи. Толкая друг друга, они расползались, затягивали небо. А следом за ними мутной завесой хлестала по вершинам гор непогода. Тянула встречная поземка. Снова захолодало. Свежие хлопья снега косыми лучами падали под ноги, засыпая следы каравана.
В двенадцать часов мы добрались до лагеря Лебедева.
– Кажется, никого нет!… – Василий Николаевич соскочил с нарт и заглянул в палатку.
Стоянка занесена снегом. Ни человеческих следов, ни нарт, ни оленей…
– Странно, куда же они ушли? – удивился я.