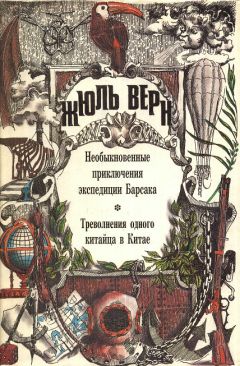— Первому, кто пошевелится, — пуля в голову! Ну, в путь!
Не нужно быть кандидатом филологических наук, чтобы понять, что вторая фраза предназначалась нам. Он очень добр, экс-начальник нашего конвоя! Двигаться?… Он может говорить все что угодно. Нет, я не двинусь, и у меня есть для этого основания. Но будем слушать.
Как раз в этот момент кто-то отвечает проворному лейтенанту:
— Wir konnen nicht hier heruntersteigen. Es sind zuviel Baume.
Хоть я ничего не понимаю в таком жаргоне, но тотчас побился об заклад с самим собой, что это по-немецки. Господин Барсак, хорошо разбирающийся в этом тяжеловесном языке, сказал мне позднее, что я угадал, и даже перевел: «Мы не можем спуститься. Здесь слишком много деревьев».
В тот момент я ничего не понял, но меня поразило, что немецкая фраза донеслась издалека, и я бы сказал, сверху, посреди продолжавшегося шума. Едва она была закончена, как третий голос прокричал:
— It's necessary to take away your prisoners until the end of the trees.
Вот как! Теперь по-английски. Понимая язык Шекспира, я тотчас перевожу: «Надо вывести ваших пленников из-под деревьев».
Так называемый лейтенант Лакур спрашивает:
— В каком направлении?
— Towards Kourkoussou! — кричит сын коварного Альбиона[68].
— На какое расстояние? — снова спрашивает лейтенант.
— Circa vend chilometri, — гремит четвертый голос.
Такому латинисту, как я, не трудно было отгадать, что эти три слова итальянские и означают они: «Около двадцати километров». Уж не в стране ли я полиглотов?[69] В Вавилонской башне или, по крайней мере, в вавилонских зарослях?
Как бы то ни было, лейтенант Лакур отвечает:
— Хорошо, я отправляюсь на рассвете.
И мною уже никто не интересуется. Я остаюсь, как был, на спине, связанный, ничего не видя, едва дыша, в малоудобном капюшоне, который на меня напялили.
После ответа лейтенанта жужжание усилилось, потом стало постепенно ослабевать. Через несколько минут его уже не было слышно. Какова была причина этого странного шума? Разумеется, затычка отрезала для меня всякую возможность сношения с остальным миром. Я только самому себе могу поставить этот вопрос и, понятно, на него не отвечаю.
Время идет. Примерно через час, может быть, больше, меня хватают двое, один за ноги, другой за плечи, раскачивают, перебрасывают, как мешок, через седло, задняя лука которого врезается мне в спину, и лошадь несется бешеным галопом.
Я никогда не предполагал, даже в самых фантастических снах, что когда-нибудь мне придется разыгрывать роль Мазепы[70] в центре Африки, и прошу вас поверить, что слава этого казака никогда не мешала мне спать.
Я спрашивал себя, удастся ли мне спастись, как ему, и не сделает ли меня судьба гетманом бамбара, как вдруг пьяный голос, исходящий из глотки, которую следовало бы прополоскать керосином, сказал по-английски тоном, заставившим меня задрожать:
— Берегись, старая кровяная жаба! Если будешь двигаться, этот револьвер поможет тебе дернуться в последний раз!
Вот уже второй раз звучит подобное предостережение, и все в такой же изысканно-вежливой форме. Это уже роскошь.
Около мчатся другие лошади, и я по временам слышу глухие стоны: моим товарищам ничуть не лучше, чем мне. Так как, по правде говоря, мне очень плохо! Я задыхаюсь, лицо мое налилось кровью. Кажется, моя голова лопнет, моя бедная голова, бессильно свесившаяся с правого бока лошади, в то время как мои ноги бьются о ее левый бок.
После часа безумной скачки кавалькада внезапно останавливается. Меня снимают с лошади, вернее — бросают на землю, как тюк белья. Проходит несколько мгновений, а затем я с трудом, так как мертв на три четверти, разбираю восклицания:
— Она умерла!
— Нет, она только в обмороке.
— Развяжите ее, — приказывает голос, который я приписываю лейтенанту Лакуру, — и освободите медика.
Женщина… Значит, мисс Бакстон в опасности?
Я чувствую, как меня вытаскивают из мешка и освобождают от повязки, мешающей видеть и дышать. Не воображают ли мои палачи, что под этими «очаровательными» предметами туалета они найдут доктора Шатоннея? Да, так и есть, — потому-то они и занимаются моей скромной персоной. Обнаружив ошибку, начальник, которым, как я и думал, оказывается лейтенант Лакур, говорит:
— Это не он. Давайте другого…
Я смотрю на него и мысленно подбираю самые страшные проклятия. Как это я мог принять его за французского офицера? Конечно, к моей чести, я сразу заподозрил подмену, но только заподозрил и не разоблачил бандита в чужом мундире, которым он, как говорится, одурачил нас, что меня бесит. Ах, каналья!.. Окажись ты в моей власти!..
В этот момент его зовут. Теперь я знаю его настоящее имя: капитан Эдуард Руфус. Пусть будет капитан. Он может быть и генералом — от этого он не станет лучше. Занятый разговором, капитан Руфус не обращает на меня внимания. Я пользуюсь этим и лихорадочно дышу. Еще немного, и я бы задохнулся. Это заметно, я, наверно, посинел, так как, взглянув на меня, капитан отдает приказ, которого я не расслышал. Тотчас же меня обшаривают. У меня отбирают оружие, деньги, но оставляют записную книжку. Эти звери не могут оценить статей, подписанных Амедеем Флорансом. Праведное небо, с какими идиотами приходится иметь дело!
Эти невежды все же развязывают мне руки и ноги, и я могу двигаться. Я пользуюсь этим без промедления, чтобы осмотреть окрестности.
Первое, что привлекает мои взоры, — это десять… чего десять?., машин… десять… гм!.. вещей… систем… десять предметов, наконец, так как, черт меня возьми, если я знаю их назначение. Они не походят ни на что виденное мною до сих пор. Представьте себе широкую платформу, покоящуюся на двух больших лыжах, с загнутыми концами. На платформе возвышается металлическая решетчатая башенка, высотой от четырех до пяти метров, которая несет большой винт о двух лопастях и две… (Ну! Опять начинается! Невозможно подобрать подходящие слова.) Две… руки… две… плоскости… Нет, я нашел слова, так как предмет больше всего походит на колоссальную цаплю, стоящую на одной ноге, — два крыла из блестящего металла размахом около шести метров. Итак, я вижу десять механизмов, расположенных в ряд. Для чего они могут служить? Когда я насытился этим непонятным зрелищем, я замечаю, что меня окружает достаточно многочисленное общество.
Тут прежде всего экс-лейтенант Лакур, возведенный в чин капитана Руфуса, потом два бывших сержанта нашего второго конвоя, настоящего чина которых я не знаю, и двадцать человек черных стрелков (большую часть их я превосходно узнаю) и, наконец, десять белых с лицами висельников — их я никогда не видел. Хотя общество и многочисленное, но оно не кажется избранным.