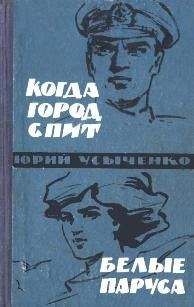Несколько лет назад я был в Балаклаве — маленькой тихой бухточке на крымском берегу. Причалы здешней гавани низкие, и потому бухточка похожа на чашу, до краев налитую густой лазоревой водой. Балаклава сильно пострадала во время войны, старых домов и старожилов почти не осталось. Давным-давно нет тех, кто был здесь в начале нынешнего века. Они умерли, дети, внуки, дети внуков их разбрелись по широкому миру, навеки забыв маленькую бухточку, до краев наполненную морем, как бокал с вином, поднесенный щедрым хозяином. Время безвозвратно стерло память о реальных людях, время бессильно перед теми, на кого упал взгляд узких татарских глаз Александра Ивановича Куприна. «Листригоны», герои повести его, также знакомы нам, как соседи по квартире. Мы пили вино с Юрой Паратино, благодушествовали за чашкой кофе у Ивана Юрьича, выезжали на запретный лов, любовались светящимся ночным морем. Биение трепещущих человеческих сердец отдается в нашем сердце, все, чем радостна человеческая жизнь, приносит нам гений.
Чехов и Левитан, Толстой и Репин, Горький и Нестеров, Шевченко и Стефаник, Золя и Дега, Кустодиев и Торо, Конрад и Хемингуэй и многие-многие другие сделали радостнее наши дни, щедрее нашу душу. Какую же радость дает написанный Фальком «Портрет Михдада Рефатова», где человек представлен в виде комбинации разорванных геометрических фигур? Или, с позволения сказать, «картина» Сальвадора Дали «Экскременты на белых камнях»? Проникнутые желанием во что бы то ни стало соригинальничать абстракционистские творения Пикассо? Слабоумное бормотание, которое выдавал за стихи бизнесмен от искусства Бурлюк? «Антироманы» и «антифильмы» Натали Саррот и ей подобных? Человек может быть безумно счастлив, отдавая себя людям, или до нищеты беден, пригребая все к своему «я». На одном литературном вечере послали записку: «Почему в президиуме так много седых поэтов?» Развеселый балбес, сочинивший ее, не желая, сказал правду. Поэты рано седеют. Ведь, перефразируя известное изречение Гейне, все трещины мира проходит через их сердце. Горестный вопрос «Быть иль не быть?» отзывается в чувствах наших, хотя бесконечно далек Ш нас Датский Принц и его эпоха. Темный силуэт замка Кронборг на туманном заснеженном берегу дорог мне, чужеземцу, который никогда раньше не был здесь и вряд ли когда-нибудь будет снова. Очертания Кронборга тают за кормой «Горизонта», оставляя тихую радость: ведь я стал богаче чувствами, чем был час назад.
А туман опять сгущается. На мостике, рядом с капитаном, стоит лоцман мистер М. — среднего роста, плотный, с молодым лицом и взглядом, хотя лет ему явно за пятьдесят. Из-под плаща на лацкане традиционного для моряка темно-синего костюма выглядывает знак Общества королевских лоцманов Дании. Петр Петрович и мистер М. изредка перебрасываются короткими фразами на английском языке. А больше всматриваются и вслушиваются в туман.
Усилия их напрасны. Белый коридор по обоим бортам «Горизонта» узок и непроницаем. На экране локатора куда то и дело заглядывают лоцман, капитан, вахтенный помощник, а за ними и я, видны десятки светящихся точек — судов, которые так же ощупью пробираются сквозь туман, как мы. Совсем рядом Копенгаген, до злости обидно, что так и не увидишь его. Справа, слева, спереди, сзади откликаются сигналами на наш сигнал.
И вот тут чуть не произошло то, что могло произойти в любую минуту нашего пятнадцатидневного плавания в тумане.
Резкий звон рынды на баке, голос впередсмотрящего: «Судно прямо по носу!» А оно — вот. Черный корпус рудовоза возник и тотчас растаял. Встречный прошел так близко, что взбурленная винтом его волна звонко шлепнулась о борт «Горизонта». На этот раз авария нас миновала. Нет скрежета стали о сталь, плеска врывающейся в пробоину воды, человеческих криков. Все спокойно.
— Капитан, — голос лоцмана чуть прерывается, как от одышки. — Надо отойти от фарватера и стать на якорь, пока не ослабнет туман. Иначе я снимаю с себя всякую ответственность.
Кравец устало кивнул. Больше недели он почти не спит, по восемнадцать часов подряд не сходит с мостика, похудел, оброс. В Ла-Манше был случай, когда ему пришлось по зову помощника выскочить на мостик прямо из ванны, кое-как одевшись, не успев смыть мыло с волос. Еду капитану приносят в рулевую рубку.
Сейчас Кравец понимал, что всякому риску есть предел.
Как только «Горизонт» отдал якорь, капитан сразу ушел к себе — урвать час-другой для сна. Расположился на отдых и лоцман, объяснив, что предыдущая ночь была для него очень трудной.
Спустившись в кают-компанию, я скуки ради включил телевизор. Транслировался балет.
Принято считать язык танца интернациональным. Содержание этого балета осталось для меня таким же загадочным, как смысл негромко произносимых женщиной-диктором шведских фраз.
Сперва на экране были Он и Она в классических трико и пачках. Медленно двигались под печальные голоса скрипок. Без всякого логического перехода Она стала служанкой матросского кабачка, лихо виляя бедрами, разносила пиво. Он, Арлекин, из дальнего угла с тоской следил за любимой. Вслед за сценой в кабачке началась совершенно невообразимое: смутные тени лазили по вертикальным конструкциям, напоминающим строительные леса, изгибались девушки в откровенных костюмах, скелеты со светящимися глазницами «оторвали», как выражались когда-то в Одессе, пляску в ритме польки-бабочки. И снова Он и Она в современной гимнастической одежде, где-то на дюнах, под холодным ветром судьбы.
Сзади меня кто-то крякнул. Я оглянулся. Наверно, мистеру М. не спалось, и он покинул лоцманскую каюту.
— Ну, — сказал я. — Как вам это нравится?
Лоцман пожал плечами, полез в карман за сигаретой.
— Откровенно говоря, совсем не нравится. Но ведь кто-то занимается этим и платит за это деньги… Не только в нашей стране — и в других…
Как тогда, в Триполи, мысль моя улетает далеко-далеко. Вот я уже не в кают-компании судна, стоящего на якоре и тумане, а бреду по улице с человеком, который исполнен «сверхмодных» взглядов.
— Вы ничего не понимаете, — объясняет он. — Пора узости мысли прошла, нечего пренебрегать вкусами 3апада. Довольно разговоров о «низкопоклонстве», «нашем приоритете», — последние слова произносит довольно-таки ядовито.
Мы долго спорили тогда и разошлись недовольные друг другом.
— Ну, да, — отвечаю лоцману, который успел достать сигарету из кармана и неторопливо разминает ее пальцами. — Кто платит, тот заказывает музыку.
— Впрочем, мне все равно. Искусство не моя специальность. В нем тумана больше, чем за иллюминатором этого судна. — Мистер М. закуривает, и мы погружаемся в молчание.