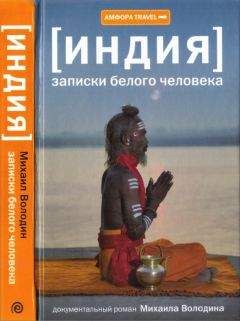Неведомое вызывает ужас в любом возрасте, но взрослому легче: у него есть так называемый здравый смысл. На дне самой жуткой жути здравомыслие дергает за рукав и говорит, что в комнате нет и быть не может ни человека, ни гроба. А что есть? Есть приметы параллельной реальности — утлом ли, гранью ли прорывающей тончайшую пряжу ночи и выглядывающей незнакомыми ликами из знакомых предметов. Но об этом здравый смысл ничего не знает. Что такое эта параллельная реальность? Какое отношение она имеет к безумцу в шкафу? Почему пальцы не слушаются, и я не могу достать спичку из коробка, чтобы зажечь свечу?!
Когда наконец мне удалось запалить фитиль, плечо, как и следовало ожидать, оказалось висящим на гвозде пальто, а клок волос — пучком то ли шерсти, то ли пакли. Можно было спокойно укладываться, но тревога не проходила. Я приподнялся на локте и всматривался в дрожащие на стенах тени, вслушивался в шумы и шорохи, долетающие снаружи. Раз возникнув, образ безумного старика не хотел уходить. Я отлично понимал, что все мое беспокойство по его поводу, все подозрения в том, что он куда нормальнее, чем хочет показаться, основывались всего на нескольких фразах. «Мало ли что мог случайно сболтнуть сумасшедший!» — пытался я убедить самого себя, но это плохо помогало. И я продолжал вслушиваться в то, что происходит вокруг меня.
Я не сразу уловил тот звук. Он звенел на такой высоте, на таком пределе слышимости, что, даже уже однажды обнаружив, поймать его вторично было непросто. Он был так же неверен, как звон в ухе, и так же далек. И вот, несмотря на слабость и призрачность, именно этот звук не давал мне уснуть и заставлял в напряжении вслушиваться.
Вскоре в сарай вернулись мои спутники. Впервые за вечер при их появлении я не почувствовал раздражения. Были они навеселе, но австралийцы пришли с зачехленными гитарами и разговаривали вполголоса. Впрочем, увидев, что я не сплю, они перестали сдерживаться.
Разговор шел о каком-то музыканте и о его женщинах. Поняв, что быстро уснуть не удастся, я вышел из сарая и немедленно вновь услышал тот звук. Здесь, вне стен, он был и громче, и отчетливей. Казалось, кто-то на берегу озера выводит на флейте-пикколо негромкую монотонную мелодию.
Судя по луне, было около девяти. Я зашел за угол сарая — другого туалета в округе не было, но в смущении замер: под навесом в нескольких метрах от меня стояла молодая хозяйка и убирала в мешки развешанную днем для просушки шерсть. Я поздоровался и присел на скамейку рядом с навесом.
— Это что — флейта? — спросил я первое, что пришло в голову, и махнул рукой в сторону озера.
Женщина, не прекращая работы, ответила:
— Дядя играет. Вы его не бойтесь! Он не злой, просто при такой луне ему становится хуже.
— Он у вас странный, — сказал я, радуясь неожиданному разговору.
— Это у него после лагерей.
— Лагерей? — переспросил я, подумав, что ослышался.
— Его держали четыре года за колючей проволокой. После того как в тысяча девятьсот пятидесятом году китайцы захватили Тибет, многих монахов убили, остальных пораскидали по лагерям и тюрьмам.
К своему стыду, я почти ничего не знал о злоключениях тибетцев. И, надо сказать, полгода, проведенные в Индии, знаний не добавили. Нет, мне, конечно, было известно о том, что через девять лет после китайского вторжения Далай-лама бежал из своего дворца Потала на север Индии, в Дхарамсалу, и что за ним последовали десятки тысяч жителей горной страны. Но прежде мне никогда не доводилось встречать человека, прошедшего китайские концлагеря!
— Дядю Тобгяла схватили на перевале, когда семья уходила из Лхасы. Он подвернул ногу и не мог идти. Пока накладывали повязку, появились китайские пограничники — врача застрелили, а дядю пытали: искали информацию о монастыре, где он жил и учился. Но какие секреты могли быть известны одиннадцатилетнему мальчику!
Санму, так звали мою собеседницу, рассказывала историю своей семьи. А я, слушая об ужасах, через которые прошел старик-тибетец, думал о своем.
Вот все и объяснилось — и сумасшествие, и загадочная речь!
Стыдно признаться, но сочувствие во мне соседствовало с негромкой радостью. Все оказалось и трагичнее, и проще. Ни к чему было прибегать к мистике, чтобы объяснить замысловатые фразы сошедшего с ума монаха!
— Когда умер отец, дядя помогал маме нас с братом воспитывать. Если бы не он, мы бы отсюда не выбрались. Я вообще-то в Дели работаю, в библиотеке, просто отпуск сейчас, а брат — военный, — закончила свой рассказ Санму. Наступила пауза. Ветер дул со стороны озера, и от этого казалось, что флейта звучит где-то совсем близко.
— Красиво играет! — сказал я, и женщина кивнула в ответ.
— В обычные дни он флейту в руки не берет. А в полнолуние до рассвета сидит на берегу и дудит. Придумал, что он — гандхарва, и пытается всех в этом убедить.
— Кто-кто? — не понял я.
— Так называют небесных музыкантов. Если человек неправильно умирает, то гандхарва захватывает его сознание и превращает в один-единственный звук в мелодии на своей флейте.
Я хотел было спросить, что значит умирать неправильно, но женщина махнула рукой — мол, поздно уже — и, пожелав спокойной ночи, скрылась в доме. Я же пристроился у стены сарая и наконец избавился от доставлявшего мне столько неудобств тибетского чая.
После пережитых страхов и разговора с Санму сна не было ни в одном глазу. Я обогнул сарай и направился к озеру: хотелось хоть издали взглянуть на безумного флейтиста.
Каменные ограды загонов мерцали отраженным светом. Выступившая на прибрежном песке соль казалась снегом и делала пейзаж совсем уже фантастическим. Луна была неспокойной: на фоне яркого диска бежала череда облаков, и тени на небе рождали дымку в озерной воде.
На берегу спиной ко мне, как цапля, на одной ноге стоял старик и играл на флейте-бансури, а вокруг него лежали козы. Двадцать, а то и тридцать потрясающе красивых кашмирских коз!
Я присел на камень метрах в десяти от старого тибетца. Уверен, подойди я ближе — и тогда музыкант не обратил бы на меня внимания. Он находился в глубоком трансе. Глаза его были закрыты, лицо обращено к луне, а тело, хоть он и стоял в позе «дерева» с вжатой стопой одной ноги в бедро другой, оставалось совершенно неподвижным. В таком положении старик умудрялся безошибочно выдувать тягучую, словно разлитую по поверхности озера, мелодию. И не было на его лице ни безумия, ни кривляния. Как камни вокруг, как склоны гор, лицо старика ничего не выражало. Я вспомнил рассказ Санму о плененных гандхарвой душах, превращенных в звуки флейты. И второй раз за день возникла мысль, что тибетцы — инопланетяне. Кто еще мог придумать такое?!