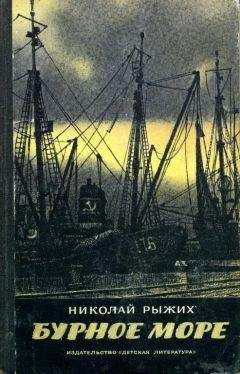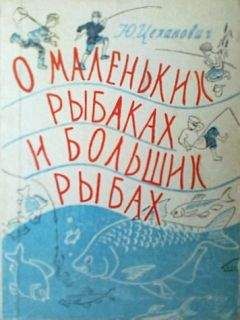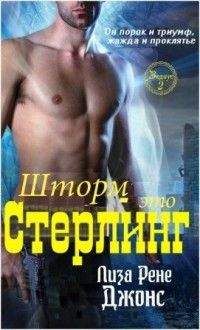— Суды, — засмеялся Борис, — вот наш старикан бросит невод в море и вытащит золотую рыбку, а золотая рыбка и скажет...
— Идите, ребята, домой, — влез Брюсов.
— Нет, она скажет...
Что скажет золотая рыбка, Борис не договорил — на мостике появился Макук. Он стал у окна, взял бинокль, начал настраивать его.
— Правда, красиво? — подошел к нему второй механик. — Тут вот наш второй штурман сожалеет, что он не Айвазовский.
— А кто этот Айвазовский? — спросил Макук, не отрывая бинокль от глаз.
— Вы не знаете, кто такой Айвазовский? — удивился Борис.
— Не слышал ничего об нем. Не наш человек, видно?
— Михаил Александрович!.. — Борис подошел к Макуку поближе, а второй механик разъехался в какой-то подмигивающей улыбке, так и говорило его лицо: «Вот это козочка!» — Это же поэт моря, — продолжал Борис, — он рисовал штормы, штили, закаты, восходы... Разве вы не видели его «Девятый вал»?
— Не приходилось.
— Да у нас в столовой висит, — брякнул боцман. — Эту, что ли?
— Да.
— А-а-а, ну эту я видел, — сказал Макук, — здорово разрисовано.
— А у него еще, Михаил Александрович, есть «Шторм в Мраморном море». О! Я это полотно считаю...
— Вот и нам, кажись, — перебил Бориса Макук, — будет Айвазовский к ночи. — Он выглянул в окно. — А уж к утру наверняка. — Он повесил бинокль, повернулся к нам, полез за куревом, предварительно вытерев руки об коленки. — Надо бежать в Славянку, ребята.
— Как в Славянку? — не понял его боцман.
— Работать, значит, не будем? — спросил второй механик.
— Вы думаете, будет шторм? — удивился Борис.
— Да разыграется, — спокойно продолжал Макук, мастеря цигарку. — В Славянке отстоимся, бухта тама хорошая, будем как у Христа за пазухой.
— При такой погоде-то? — спросил боцман.
— Михаил Александрович, посмотрите на горизонт. «Солнце красно к вечеру, моряку бояться нечего». Это же всем ясно. Это же...
— А облака? — повернулся к нему Макук. Потом подскочил к окну: — Гляди, как стелятся. Тайфун идеть. И нас крылом заденеть. Он же каждые три года здеся бывает. Ну?
— При всяких тайфунах приходилось... — поморщился боцман.
— Возле Японии не то было... и работали.
— Шторм... ха...
— Да, ребята, да какая же работа, если оно дунет? Ведь это не шуточки! — до болезненных ноток в голосе расстроился Макук. Весь его вид так и говорил: «Что за народ? Ничего не понимают». — Все поломаить и попорветь. Ну?
— Пока до этого дойдет, — подступил к нему боцман, — мы выхватим груз и можем идти хоть за Славянку.
— В непогоду-то? — повернулся к боцману Макук. — Да ты трал не успеешь наладить. Трал-то наладить надо, да еще всё приготовить.
— Это мы делаем на «раз», — сказал боцман.
— Да что ты сделаешь? — Макук даже присел от расстройства. — Не получится же, ребята... ведь это такое дело... Ну? — Он потерянно смотрел на ребят.
Черт возьми! Комедия! Самая настоящая. Петрович бы так турнул всех горлопанов, что до конца рейса бы дорогу на мостик забыли. А этот митингует. Или действительно он не представляет, кто он?
— Боцман, «Онгудай» пойдет в Славянку.
— Значит, не начнем работать? — повернулся ко мне боцман.
— У нас не колхозное собрание, а мостик судна.
— Это мы уже слышали от одного, да он на курорты сбежал, — подковырнул меня второй механик.
— И ты против нас? — удивился Борис.
— Кому что не ясно? И лишних попрошу с мостика.
— В гробу я видел такую работу, — брякнул боцман и, чертыхаясь, повернулся уходить.
— Боцман!
— Ну! — Он стоял вполоборота ко мне. Набычась.
— Если человек не хочет работать, он несет заявление.
— А я что говорю? Я и говорю, что работать надо, а не фестивалить.
— Да пойдем, Егорович, — взял его под руку второй механик. — Они ж тут друг за дружку. Еще выговорок влепят. А в Славянке мы в кинишко сбегаем, на танцы, «барыню» с тобой оторвем...
— Да брысь ты! — цыкнул на него боцман и с мостика пошел, ворча и плюясь.
Я подошел к окну. Было видно, как второй механик подскочил к ребятам, что-то объясняя им. Кое-кто глянул на мостик — улыбки кривые. Боцман прошел мимо всех, сутулясь. Они поплелись за ним. Кому это нужно? Может, начальство действительно подшутило над нами...
— Слышь? — обратился ко мне Макук. Он подошел к соседнему окну. Курил. — Это ты зря на них так. Они ребята ничего... только ершистые, а так ничего... — Он благодарно улыбнулся мне.
— Принимайте вахту, Михаил Александрович, я пойду спать. — Я ему совсем не улыбнулся.
— Иди, иди... чего тут... добежим быстро, недалеко тут. Вон и другие налаживаются в Славянку.
Когда же кончатся эти «планы», «грузы», «вира», «майна»... Уже четвертый месяц не снимаем свитеров и сапог. Черт возьми, а как хорошо сидеть в самолете возле окна, смотреть на города, деревни, ленты рек, ползущие поезда, машины по шоссейным дорогам. Потихоньку, чтобы не видела стюардесса, потягивать мускат или шампанское. Да можно и коньяк... Вспоминать штормы, штили, туманы, бессонные ночи с грохотом моря и воем ветра, усталость, нервные встряски, которых за рейс ой сколько бывает! Впереди Москва, шелест шин такси, озабоченная и деловая сутолока в метро. А потом вокзальное, никакими словами не передаваемое настроение. А когда подъезжаешь к дому, к своей станции! Я этот момент считаю самым счастливым во всей дороге: стоишь у окна и смотришь на знакомые дома, сараи, огороды... Встреча, ахи, охи, слезы, вечеринки — не то. А вот когда из окна увидишь знакомый забор...
Утром просыпаешься с беспечным, каким-то воздушным настроением. Даже не веришь, что потолок не качается, море не шумит за переборкой и не слышно стука поршней машины. А впереди целый день такой...
Позади на много миль
И шторма и полный штиль...
Эх! Прямо закричать хочется.
Спустился в каюту. Там Борис с Новокощеновым занимаются астрономией, уткнулись в учебники.
— Ну как там наш Макук? — поднял голову Борис.
— На мостике.
— В Славянку идет?
— Не знаю.
— Ты почему с нами разговаривать не хочешь?
— Вы же заняты.
— Верно. — Борис задумался. — Ну ладно, Сын, давай рисуй звездное небо. Северное полушарие.
Сегодня очередь Бориса натаскивать Новокощенова. Он учится в мореходке заочно, уже второй курс заканчивает. Мы помогаем ему, помогаем и удивляемся: откуда человек берет столько энергии? После работы, когда ребята, усталые насмерть, забыв даже помыться, валятся в койки, он ухитряется решить задачу по астрономии или вызубрить несколько английских слов. За переборкой шумит море, валяет кубрик с боку на бок, а он, упершись ногами в рундук, шевелит и шевелит толстыми губами. Как ни в чем не бывало. Да и поступал оригинально: чтобы не наделать ошибок в сочинении, предложения составлял из двух слов — подлежащего и сказуемого. Преподаватели удивлялись: не сочинение, а радиограмма. Но тройку поставили. Астрономию и навигацию сейчас он знает, пожалуй, за всю мореходку, а вот с грамматикой плохо: в простом диктанте делает по тридцать одной ошибке. Однако это не мешает ему в неделю сочинять по два большущих письма в Холмск. Там у него девушка — она рыб разводит, ихтиологом работает. Она ему тоже сочиняет по два, а может, и побольше. Однажды мы в порт не заходили два месяца — на камбале были, сдавали на базу, — и, когда пришли в Северо-Курильск, он получил двадцать толстых конвертов. Из скольких слов там предложения, он никому не показывает. Про нее Брюсов поет: