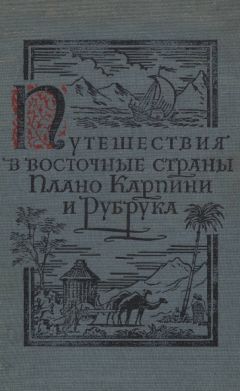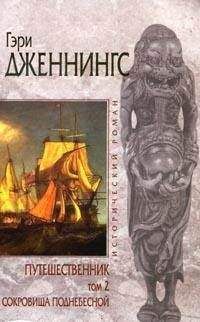Девять индейцев в оковах были им посланы в Изабеллу на суд самого адмирала.
Согласно полномочиям, данным господину монархами, ему предоставлялось право суда в новой колонии, однако до сих пор он этим правом не пользовался. Как я был рад, что рыцаря Охеды не было в Изабелле! Я сидел в зале и прослушал весь допрос от начала до конца. Индейцы были приговорены к смерти за восстание против белых. Но тут же на суде господин объявил, что по настоянию дружественных касиков они помилованы. И у меня и у синьора Марио стояли в глазах слезы умиления, когда мы возвращались домой.
Но, к нашему глубочайшему сожалению, это был последний случай милосердия, проявленного к индейцам.
Люди Охеды, перенявшие свирепость у своего начальника, без труда нагнали страх на окружающих их индейцев, и господин пришел к выводу, что все окрестные племена можно держать в повиновении, имея армию, в половину меньшую, чем сейчас, излишек же людей можно будет с пользой обратить к мирным трудам.
Однако и то и другое оказалось ошибочным.
Заняв внимание недовольных синьоров приготовлениями к предстоящему походу, устранив слабовольного Маргарита и заменив его Охедой, устроив, таким образом, дела Изабеллы и форта святого Фомы, господин решил заняться дальнейшими исследованиями вновь открытых земель.
Прежде всего он имел в виду отправиться исследовать берега Кубы, которые, по всем имеющимся у него сведениям, представляли не что иное, как прибрежную часть материковой земли. Особенно полагался он на свидетельство англичанина Таллерте Лайэса, которого во второе плавание он так и не взял.
Передав все полномочия по управлению островом брату своему Диего,[88] господин сам занялся приготовлениями к плаванию. В хунту входили патер Буйль, Педро Эрнандес де Коронель, главный альгвасил, Алонсо Санчес де Корвахаль и Хуан де Лухан.
Когда синьор Марио позвал меня, чтобы сообщить, что он вымолил для меня у адмирала разрешение отправиться в экскурсию вдоль берегов Эспаньолы и Кубы, я не выразил ни малейшей радости по этому поводу. У меня не было сил, мне трудно было даже пошевелить пальцем. Добрый секретарь стал уговаривать меня, обещая, что здоровье мое окрепнет, как только я покину эту нездоровую, болотистую местность, а, больной, как буду я пригоден для розысков Орниччо! Только после этого я решил принять участие в походе. И вот 23 апреля 1494 года мы на «Нинье» и трех небольших караках, специально предназначенных для береговых разведок, вышли в море.
Два дня мы плыли вдоль берегов на запад и на третий день очутились напротив того места, где когда-то воздвиг нули форт Рождества.
И тут, у берегов залива Покоя, ко мне вдруг снова вернулись надежда и охота жить. Я расскажу подробно, каким образом это случилось.
25 апреля мы вошли в залив у форта Рождества.
Так как наши суда сидели в воде неглубоко, мы имели возможность не останавливаться далеко на рейде, как это делали раньше, а подойти вплотную к берегу.
Не знаю, разрушительная ли сила ветра, дожди или люди потрудились над обломками Навидада, но от них уже почти ничего не осталось, а местность поразила нас своим безлюдьем.
Матросы при нашем приближении к этим местам стали беспокойно переглядываться, а когда адмирал отдал распоряжение спустить лодки, к нему была отправлена делегация из трех человек с просьбой не тревожить души умерших, которые бродят здесь по берегам залива.
Адмирал, рассчитывавший встретить здесь людей касика Гуаканагари и возобновить с ним дружеские отношения, не видя ни одной лодки в заливе и ни одной живой души на берегу, решил отправиться дальше, чтобы не волновать понапрасну свою команду.
Мне же, в виду развалин Навидада, пришла в голову мысль еще раз побывать в заливе Покоя и навестить хижину моего друга. Не внимая уговорам товарищей, я взял лодку и один отправился к этим дорогим и печальным местам.
Я пристал у берега, привязал лодку в колючем кустарнике и бегом бросился вверх по тропинке. Через минуту я уже был в хижине Орниччо.
Мне достаточно было одного взгляда, чтобы удостовериться, что после того, как я побывал здесь, кто-то уже в ней похозяйничал.
Козьего меха на полу не было, полка была снята со стены и стояла прислоненная к столу. Двумя деревянными колышками к столу был прибит пожелтевший листок бумаги. Дрожа от волнения, я, схватив бумагу, бросился с ней к двери.
Просочившаяся ли с потолка вода была тому причиной, или бумага вообще была уже негодной к употреблению, но коротенькая надпись, сделанная буро-красной краской, была неразборчива.
Я вертел листок перед глазами в разные стороны, и мне наконец стало казаться, что я различаю слова: «Я жив. Орниччо». Но уже в следующую минуту я придумывал другие, и расплывшиеся буквы покорно, по моему желанию, складывались в любую фразу.
Но как бы то ни было, если это Орниччо побывал здесь после меня, то он несомненно жив. А чего мне было еще желать? Увидеться с ним? Но раз мой милый друг жив, я несомненно с ним еще увижусь.
Никакие голоса мертвых теперь не могли бы меня испугать. И я бросился осматривать местность вокруг хижины, надеясь, что это даст мне какие-нибудь сведения об Орниччо. Но тщетны были мои поиски. Белая козочка уже не бродила за домом, исчезла бадья над колодцем и бочка с просоленной кожей. Друг мой, очевидно, обосновался в другом месте, если позаботился взять отсюда свое несложное хозяйство.
Сердце мое сильно билось. Кто знает, быть может, не дальше как месяц, не дальше как неделю или даже день назад здесь ступала нога моего друга. Адмирал отпустил меня на короткий срок, и я медленно стал спускаться по тропинке к берегу.
— Франческо Руппи! — вдруг крикнул надо мной резкий голос, и это было так неожиданно, что я чуть не слетел вниз.
Страх охватил меня. Неужели эти несчастные души еще скитаются здесь, взывая о погребении? И не ужас ли перед ними заставил моего друга так стремительно покинуть насиженное место?
— Куба! Куба! — пронзительно крикнул над моей головой тот же голос.
И, подняв глаза, я вдруг в припадке безудержного смеха повалился на землю.
Так вот кто напугал храбрецов нашей команды и смутил спокойствие адмирала. На ветке надо мной сидел красивый серо-красный попугай. Чистя лапой толстый клюв, он посматривал на меня, светя желтым, как бы стеклянным глазком.
— Орниччо! Орниччо! Куба! — крикнул он пронзительно и, сорвавшись с места, шумно взмахивая крыльями, исчез в зелени дерева.
Как, услышав этот резкий голос, я не догадался сразу, что это кричит птица? Видя в домике синьора Томазо перед собой ежедневно дрозда, который говорил «Добро пожаловать», или скворца, который отлично выговаривал наши имена, как я не догадался раньше, что тот же Орниччо обучил говорить и этих тропических птиц? Но почему попугай крикнул «Куба»?