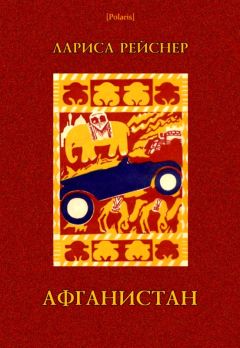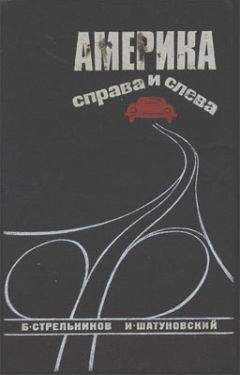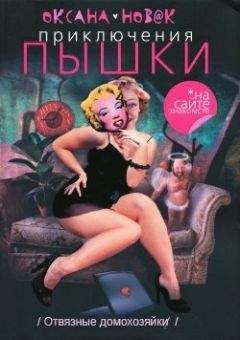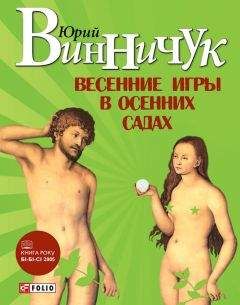Самый танец — душа племени.
Он несется высокими скачками, как охотник за добычей. Он раскачивается из стороны в сторону, встряхивая головой в длинных черных волосах, колдует и опьяняется. Пляска бьется, как воин в поле, умирает, как раненый, у которого грудь разорвана пулей того сорта, которым в Пенджабе и Малабаре бьют крупного зверя и — повстанцев. Наконец, танец побеждает и любит с протянутыми вверх руками, радостно, на лету, как орлы в горах, как люди на старых греческих вазах.
Таков танец, но еще богаче и смелее песня. Племя садится в круг, прямо на земле. Лучший певец, стоя в середине, поет стих, и барабанщик его сопровождает, точно гортанным смехом, тихой щекочущей дробью.
— Англичане отняли у нас землю, — поет певец, — но мы прогоним их и вернем свои поля и дома.
Все племя повторяет рефрен, а английский посол сидит на пышной трибуне, бледнеет и иронически аплодирует.
— Мы сотрем вас с лица земли, как корова слизывает траву, — вы нас никогда не победите.
Тысячи глаз следят за англичанами: вокруг певцов стена молчаливых, злорадно улыбающихся слушателей.
— К счастью, не все европейцы похожи на проклятых ференги, — есть большевики, которые идут заодно с мусульманами.
И толпа смеется, рокочет, теснится к трибунам.
«Большевик» — это они понимают. О большевиках поют песни на окраине мира, на границах Индии. «Большевик» — это звучит так гордо и сурово у певца, поднявшего над головой винтовку, — английскую винтовку, снятую после боя с побежденного врага. И барабанщик скалит хищные белые зубы, перебирая веселыми, тонкими, хитрыми палочками.
Когда-то старинные крепостные стены сходились над узким выходом из Кабульской долины, как сросшиеся брови. Затем время, великие завоеватели и торговля пробили брешь в стенах, и ею воспользовались оросительные каналы и шоссе. Наконец, в том месте, где справа и слева от дороги по рваным, ломаным и голым скалам висит разорванная пополам змея стены, показывая в курящийся зной и на бледном, отдыхающем небе заката щетинистый, зубчатый хребет, — возникла первая в Афганистане фабрика.
В ее фундамент вошло немало камней из старой крепости, — камней, которые рабскими руками волокли вверх по отвесной стене и живым соком прилепляли к ребрам скал и жестким и жгучим горным плечам там, на высоте, под самым небом. И хотя завод строили англичане, хотя по вечерам ряд его блистающих окон вызывает во мраке мираж иной цивилизации, — блуждающие огни старых кладбищ, свечи, тлеющие в тихих нишах в горах, тайно подмигивают электрическим созвездиям, и прерванная стена крепости связана этим новым звеном «машин-хане» так же прочно, как прежде стуком патрулей, криками строителей и тех, кто лез на старые зубцы с ножом в зубах и срывался вниз с окровавленными коленями, с разбитым кожаным щитом. В основании завода — камни, скрепленные рабским потом, старые, седые, ядовитые от времени уроды.
Днем вся долина машин-хане седеет от зноя. Мимо тащатся солдаты, пешеходы, ремесленники и кочующие племена. Ослы и верблюды подымают густую пыль, и ветер ущелья, сквозняк, неистово влетающий в тесные Кабульские ворота, делает из нее серые паруса. Напрасно огородники, по колено в арыках, бросают воду под ноги прохожих деревянными лопатами; запах мокрой пыли, как и свежий запах лука с их грядок, делает еще гуще и терпче горячее дыхание дороги. Огороды и хлебные поля доходят до самых стен завода, охраняемых часовыми. Средневековое земледелие смешивает свое дыхание с запахом машин; вода, обежав ячмень и клевер, кукурузу и абрикосовые сады, еще холодная, чистая и душистая, льется в фабричные желоба, котлы и турбины.
В первых шерстяных отделениях густой запах курдючных баранов, конюшен, парного молока, шерсти, прелого стойла. У машины, небрежно и устало опираясь на пастушеский посох, стоит древний Иаков, библейский пастух с открытой грудью и белым тюрбаном; возле своей динамо он так же гол, прост и покорен, как у стад своего ветхозаветного патриарха.
В общем, Восток ведь немой. И суета базара, и движение больших дорог, и кладбища с плоскими острыми камнями на могилах, похожими на зазубренные ножи доисторического человека, — не что иное, как тишина, в которой роятся краски, сгустки света и теплой энергии, совершенно как пыль в солнечном луче.
Все в зрении минутно, изменчиво и неподвижно в движении, — ну да, неподвижно, как смерть. И вдруг в сердце самой горячей долины, в средоточии восточной немоты, на дворике, мощеном столетними камнями, из которых каждый имеет свою длинную и забытую миром историю, в стенах голых и горячих, как скалы или кладбища, где ни одна живая тень не осеняет каторжный труд, где нет ни влаги, ни ленивой зелени, где одна только пленная перепелка, повешенная в ивовой клетке на пороге мастерской, отчаянно и нежно кричит, разинув от жары свой клюв, — навстречу вам из корпусов, похожих на овечьи стойла, из низких дверей, выдыхающих запах скота и рабочего пота, с клекотом, с судорожной торопливостью, с бешеной настойчивостью стучат молоты и молотки, скрежещут железные челюсти машин, и электричество, наклонив шею под деревянное ярмо первобытного земледельца, задыхаясь и дрожа от бешенства, волочит тягчайший плуг.
Этот шум, этот живой трепет машин после полуденной лени полей производит впечатление потрясающее: это заговор против старых гор, мечетей, магометанского неба, лени, смирения и вялой нищеты.
Вся кровь бросается в голову, — ведь год не видели этой копоти, не трогали машины, согретой, живой. Серый кирпичный фасад, почерневшая рама дверей, лязг металла — может быть, чудо? Не Путиловский ли, не кронштадтские ли мастерские?
И страшно на минуту, и жгуче-весело. Сейчас из этих низких дверей хлынет знакомая толпа, сам великий заговорщик, притаившийся в пыльной долине Кабула.
После тучных афганских взяточников, после слащавых иностранцев, после выдержанных англичан, у которых для нас есть такие корректнейшие улыбки, пересекающие лицо, точно поперечный надрез на кончике пули, хочется пить, пить душный фабричный воздух, пить напряжение, пить чистую пролетарскую злобу, выдержанную, как в сухом погребе вино. Как в лихорадке, не могу понять широкой, мягкой туши, которая уже стоит перед нами, кланяется, прижимая руку к тому месту, где под жиром, фланелью и кончиком пестрейшего платочка должно быть ее, тушино, сердце.
Директор завода.
Взаимно киваем, приседаем, заботливо справляемся о здоровье: джур-ести, хуб-ести, — как вы поживаете, не тяготит ли вас куча мяса и жира, которую вам приходится носить на себе? Нет, нет, слава богу. И надзиратель тростью отгоняет от нас кучку собравшихся рабочих.