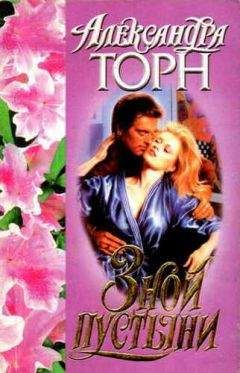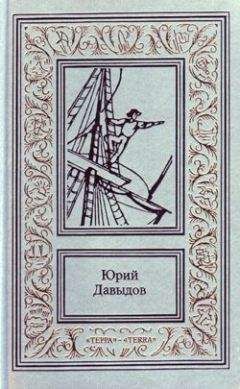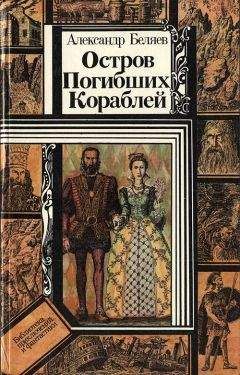Ни одной пятницы не пропускалъ Абдъ-Алла, чтобы не сказать проповѣди, чающему отъ него поученія народу. Какимъ являлся этотъ бывалый старикъ, искушенный жизнью и благочестивыми подвигами хаджи, когда произносилъ съ высоты каѳедръ свою пламенную рѣчь; какимъ огнемъ тогда блистали его черныѳ глаза изъ-подъ сѣдыхъ длинныхъ бровей, какою силою и фанатизмомъ дышало каждое слово вдохновенной проповѣди того, кто Бога ради и пророка въ себѣ убилъ и воина, и сластолюбца, убилъ свои помыслы, свое собственное я. Въ каждый муллетъ — день, посвященный воспоминаніямъ о пророкѣ — старый шейхъ говорилъ также свои вдохновенныя рѣчи, и тогда, по словамъ Юзы, во всемъ громадномъ Каирѣ никто не говорилъ лучше Абдъ-Аллы. «Самъ пророкъ (да будетъ благословенно имя его!) влагалъ силу и огонь въ уста сѣдовласаго старца на поученіе правовѣрныхъ, самъ пророкъ въ иныя минуты говорилъ словами стараго шейха, и народъ въ трепетѣ внималъ пламенной рѣчи.
Только на праздникѣ курбамъ-байрамѣ не бываетъ въ Каирѣ вдохновенный проповѣдникъ-хаджа. Онъ молится тогда у гроба пророка, и тамъ у самаго подножья таинственной Каабы или за горѣ жертвоприношеній Араратѣ слышится его вдохновенная, горячая, какъ огонь рѣчь. Букчіевъ слышалъ эту проповѣдь стараго шейха и, удивляясь силѣ его краснорѣчія и огня, сравнивалъ ее съ трубою архангела Израфіила, который будетъ трубить при всеобщемъ воскресеніи. Большой (курбамъ) байрамъ — величайшій изъ мусульманскихъ праздниковъ, когда коранъ открылся людямъ и, низойдя на землю, сталъ свѣточемъ правовѣрнаго человѣчества — лучшій день въ году для стараго хаджи. Онъ молится тогда не столько за себя у гроба Магометова, сколько за свою обширную паству; всю ночь онъ лежитъ тогда ницъ передъ святынею и ждетъ, когда тѣнь великаго пророка пройдетъ передъ нимъ и коснется его головы… Тѣ минуты — райское блаженство для Абдъ-Аллы; тогда онъ предвкушаетъ и небо, и рай, и все, что уготовано въ горнихъ высяхъ для истиннаго правовѣрнаго. Весь постный мѣсяцъ рамазанъ, — предшествующій байраму, строго постится суровый къ самому себѣ Абдъ-Алла. Съ ранняго утра, какъ только утренняя заря позволитъ различить черную нитку отъ бѣлой, и до наступленія ночи не только ничего не ѣстъ и не пьетъ старый хаджа, но даже не куритъ, не вдыхаетъ благовоній. Даже легкій ароматъ аравійской розы, питающій обоняніе, по убѣжденію шейха, несетъ съ собою невидимый грѣхъ. Ни болѣзнь, ни путешествіе не отклоняютъ его отъ этихъ священныхъ обязанностей, хотя коранъ, снисходя къ слабости человѣчества, и дозволяетъ въ этихъ случаяхъ смягченіе поста. Много разъ рамазанъ заставалъ Абдъ-Аллу въ пустынѣ, и онъ, сгорая отъ нестерпимой жажды, падалъ отъ изнеможенія, не позволялъ себѣ до наступленія ночи не только-что ни капли воды, но даже глотнуть свою собственную слюну. И даже ночью, когда законъ разрѣшаетъ мусульманину и пить, и ѣсть, и веселиться, когда въ городахъ Египта происходятъ ночныя оргіи, когда красивыя раузіатъ (публичныя танцовщицы) и альмеи пляшутъ сладострастные танцы, когда пиршество и „фантазія“ (всякое увеселеніе) правовѣрныхъ достигаетъ nec plus ultra страстности, Абдъ-Алла читаетъ только молитвы и перебираетъ свои освященныя суббахъ (четки), поддерживая свое изможденное строгимъ постомъ тѣло одною ключевою водою, хлѣбомъ, плодами и трубкою душистаго наргилэ.
Только въ день малаго байрама расправляются морщины на челѣ стараго хаджи. „Аллахъ-хуакбаръ“, повторяетъ онъ нѣсколько разъ, одѣвается въ свои лучшія одежды и идетъ за базаръ, гдѣ для праздной толпы придуманы всевозможныя увеселенія въ родѣ качелей, пѣсенниковъ, сказочниковъ, укротителей змѣй, раузіатъ, обезьянъ, музыкантовъ и т. п. Но и въ тотъ день веселья ни одного больного не оставитъ Абдъ-Алла; онъ не пройдетъ мимо ни одного несчастнаго, нуждающагося въ помощи; въ день праздника много денегъ своихъ раздаетъ старикъ шейхъ неимущимъ и сиротамъ…
Чистъ и праведенъ Абдъ-Алла, и онъ можетъ съ чистою совѣстью ожидать смерти, чтобы исповѣдывать громогласно Бога и пророка, умереть во имя божіе, чтобы двери рая Магометова отверзлись передъ нимъ. Поселится онъ тогда въ саду наслажденій, и какъ добрый мусульманинъ возляжетъ за одръ, усыпанный самоцвѣтами, изваянный изъ драгоцѣннаго металла, и будетъ, окруженный своими друзьями, пить искрометное вино изъ золотыхъ чашъ, которыя поднесутъ ему вѣчно юныя, кудрявыя дѣти. То вино не затуманитъ головы, оно просвѣтитъ только болѣе разумъ и духовное оно. Мясомъ рѣдкихъ птицъ и лучшими плодами будетъ тамъ въ селеніи Аллаха питать свое просвѣтленное тѣло правовѣрный, а кто не найдетъ утѣхи въ винѣ и яствахъ, того утѣшитъ милосердный Аллахъ неземною прелестью. Чудныя небесныя гуріи съумѣютъ вознаградить мусульманина за добрыя дѣла, совершенныя въ семъ мірѣ — юдоли страданія. Ихъ черныя глава, темнвя какъ мракъ полуночи, блещутъ огнемъ и неземною страстью, ихъ станъ, стройный, какъ пальма Востока, ихъ тѣло, которое бѣлѣе ливанскихъ снѣговъ и блестящѣе перловъ, заставятъ забыть о всемъ пережитомъ на землѣ, а ихъ улыбка прекрасная, какъ день, ихъ поцѣлуи горячіе, какъ песокъ пустыни, ихъ прекрасное, какъ роза изъ садовъ Фарсистана, лицо и объятія, подобныхъ которымъ нѣтъ за землѣ — все это создано для утѣхи правовѣрныхъ въ горнемъ мірѣ, чтобы вознаградить ихъ за молитвы, омовенія, посты и добрыя дѣла…
Люди, подобные Абдъ-Аллѣ, служатъ настоящею опорою исламизму, и не мудрено, что послѣ смерти они будутъ почтены, какъ великіе шейхи и сантоны, и надъ могилою ихъ будутъ построены цѣлые храмы и гробницы, какихъ много стоитъ на всѣхъ караванныхъ дорогахъ на протяженіи всей аравійской пустыни.
Пока Букчіевъ и Юза повѣствовали мнѣ о знаменитомъ паломникѣ мусульманства, возсѣдавшемъ вмѣстѣ съ нами, костеръ нашъ то вспыхивалъ ярко, озаряя живописную группу, среди которой старый шейхъ казался настоящимъ патріархомъ, то опять погасалъ, пока Ахмедъ и Рашидъ не подкладывали снова сучковъ тарфы (маниоваго дерева) или сухого бурьяна. Абдъ-Алла и Букчіевъ остались у насъ ужинать. Ми ничего не могли предложить своимъ гостямъ, кромѣ той же бурды, которую ѣли сами. Хотя Юза — нашъ поваръ, и величалъ ее громкимъ именемъ супа, но то было самообольщевіе, и наше варево походило не столько на супъ, сколько на пойло для коровъ, въ которомъ были сварены вмѣстѣ и хлѣбъ, и оливки, и финики, и все это было подкрашено для цвѣта и вкуса краснымъ виномъ. Небольшой кусочекъ перепелки, убитой мною на восходѣ солнца въ тотъ день, служилъ вторымъ блюдомъ, а сладкіе финики составляли недурной, но сильно пріѣвшійся дессертъ. Поѣвши, мои собесѣдники смолкли; даже словоохотливый Букчіевъ молчалъ, о чемъ-то задумавшись; Рашидъ и Ахмедъ дремали, а старый Абдъ-Алла, затянувшись душистымъ наргилэ, который онъ сперва предложилъ мнѣ, сидѣлъ, потупивъ свои глаза, какъ буддистъ, и погрузившись въ свою священную нирвану. Казалось все смолкло, все приготовлялось ко сну; даже костеръ нашъ, не поддерживаемый никѣмъ, началъ потухать. Только отъ меня сонъ бѣжалъ далеко; я всталъ и пошелъ въ своимъ паціентамъ; обернутые въ бѣлье, какъ бы въ саваны, они лежали неподалеку, около другого, тоже полупотухающаго огонька. Вокругъ курившагося небольшого костра сидѣло нѣсколько хаджей, дежурившихъ у своихъ умирающихъ сотоварищей, съ которыми они раздѣлили много горя и лишеній, проведя десятки дней на многотрудномъ пути въ священной Каабѣ. Полумерцающій огонекъ слабымъ багровымъ свѣтомъ озарялъ, и саваны живыхъ мертвецовъ, и испитыя физіономіи людей, сидѣвшихъ вокругъ пламени…