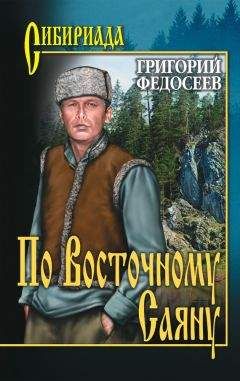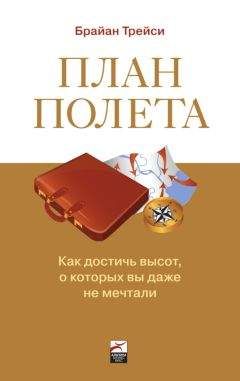– Слыхали мы, что ты, храбрый Гудей-Богачан, собираешься заставить солнце светить зимою так же, как и летом, да не знаешь, как это сделать. Отправляйся сам на юг и иди до тех пор, пока не встретятся большие горы. Зимою ветры насыпают на них много снегу, они-то и заслоняют солнце. Разбросай горы – и будет всегда тепло, – сказал ворон и улетел обратно.
Гудей-Богачан стал отца просить отпустить его в этот путь. Забеспокоился старый Сакал, опасаясь, что на чужой стороне молодой богатырь увидит красивую девушку и не устоит перед соблазном любви. Стал отговаривать сына, да разве удержишь в гнезде орленка, если у него отросли крылья и он однажды уже испытал их силу?!
– Иди, но помни: твои глаза не должны задерживаться на лицах чужих девушек, уши твои не должны слышать их голосов, ты не должен искать близости с женщиной в чужой стороне, иначе великое бедствие постигнет народ, – сказал на прощанье старый Сакал.
Прошел молодой богатырь всю тайгу, равнины, через реки большие и малые переправился, а гор все не видно. Возвращаться уже решил, но тут ворон невесть откуда появился. «Иди, – говорит, – за мною, горы уже близко».
Еще день шел Гудей-Богачан. Видит впереди зеленую падь, а в ней стойбище большое, вокруг которого войско стоит огромное и впереди войска богатырь Кара-Иргичи. Догадался Гудей-Богачан, что обманул его проклятый ворон и в стан врагов привел. Но Кара-Иргичи, как заметил Гудей-Богачана, видать, испугался и убежал со своего стойбища, за ним и войско все кинулось.
Спустился молодой богатырь в падь. По стойбищу ходит, в чумы заглядывает, удивляется: ни женщин, ни детей, все добро брошено. Но вот видит он: на краю леса дымок вьется, к небу тянется, большой чум стоит, узоры на нем расшиты золотом. Зашел в него Гудей-Богачан, да так и онемел, с места сдвинуться не может, будто к земле ноги приросли. Глазам своим не верит. Навстречу ему со шкур звериных поднялась невиданной красоты девица, в дорогом наряде, стройна, как березка в густом лесу, глаза горят ласкою. Подошла она к Гудей-Богачану, крепко обняла его за шею, жарко поцеловала. Грудью своей коснулась его груди.
– Давно я поджидаю тебя, мой любимый Гудей-Богачан, спас ты меня от злого богатыря Кара-Иргичи, – сказала красавица и, за руку взяв Гудей-Богачана, на шкуры мягкие его усадила.
Не верит молодой богатырь, что так легко досталась ему дорогая добыча, не может отвести глаз от нее.
– Веди меня в свой чум, женой твоей буду верной, сыновей-богатырей принесу, – говорит девица, а сама раздевает молодого богатыря, на подушки мягкие кладет его голову покорную.
Забыл Гудей-Богачан про наказ отца, не вспомнил про свой народ, остался в чуме. Утром проснулся – видит возле себя Кара-Иргичи. Хочет встать молодой богатырь, схватиться с ним, да не может он сдвинуться с места, поднять руки, – растворилась сила богатырская в ласках женщины.
– Говорил тебе, что мы встретимся! Не силой, а хитростью победил я тебя, – сказал Кара-Иргичи и занес над богатырем руку с ножом.
– Не тронь, брат мой, я сама убью его! – слышит Гудей-Богачан голос девицы и видит, как, взяв у черного волка нож, она склоняется над ним. – Слушай меня, молодой богатырь Гудей-Богачан, и терзайся позором. За одну ночь любви моей ты заплатил дорогой ценой, ценой счастья своего народа и своей жизни. Сейчас ты и умрешь от моей руки…
Так и расстался богатырь с жизнью в чужой стороне, так поплатился он за любовь к женщине чужого, враждебного племени.
Тот же ворон разнес повсюду недобрую весть о смерти молодого богатыря Гудей-Богачана. Умер от горя старик Сакал, разлетелись птицы кто куда, разбрелись звери по тайге, следом за ними ушли обездоленные эвенки. Не захотели они жить в неволе у Кара-Иргичи, с тех пор и стали кочевать…
Умолк старик, уронив на грудь седую голову, должно быть, жалко было ему свой народ.
– Чайку горячего выпей, – предложил Василий Николаевич.
– Чай хорошо, – оживился Улукиткан, – буду пить, да надо спать: поди, уже полночь.
Я вышел из палатки. Над долиной – глубокая ночь, щедро политая трепетным блеском лунного света. Вокруг так светло, что трудно угадать, близко ли утро, или все еще продолжается вечер. Воздух неподвижен, тишина. Только скрипучие шаги оленей по затвердевшему снегу нарушают безмолвный покой, да изредка доносится из-за леса глухой отрывистый крик ночной совы. Вот она, северная ночь, нарядная, затянутая серебристой дымкой с темноголубыми тенями, с просветленным небом и необыкновенно тонким колоритом. В ней и грусть, и безмятежность, и нерушимый покой… Нет, нельзя описать всей прелести северной ночи, до того она прекрасна в непосредственной близости, когда ощущаешь ее холодное дыхание и видишь всю гамму ее тончайших красок.
Утром мы поторопились покинуть стоянку. Нужно было сегодня добраться с грузом под вершину первого гольца. Пойдем втроем: Мищенко, Пресников и я. Геннадий останется с каюрами, будет держать связь со штабом и при необходимости разыщет нас с одним из проводников. Бойка и Кучум носятся близ палаток.
Нарты загружены, увязаны. Перед тем как тронуться в путь, все молча собрались у костра. Так уж давно заведено у нас – минуту молчать перед большим походом. Солнце еще не появилось, но восточный край неба сиял пурпурно-золотым отливом и все больше и больше светлел. Ко мне подошел Улукиткан.
– Может, холод будет, восход нехорош, хлеб клади обязательно за пазуху, не замерзнет, – сказал он ласково, передавая всем нам троим по теплой, недавно испеченной лепешке. – Кушать будешь на привале – вспомнишь, что Улукиткан правильно толмачил,-добавил старик, и добродушная улыбка оживила его лицо.
Все это было искренне и трогательно! Мы даже растерялись и в радостном смущении спасибо старику сказать не догадались. Хотелось сделать что-то большое, достойное этого искреннего и простого проявления души старого таежника. Ведь нужно же было ему после утомительного для его памяти рассказа старой легенды провозиться в своей палатке до утра с выпечкой лепешек, и все для того, чтобы сделать нам приятное, хорошо проводить нас в путь.
Обычно сдержанный Василий Николаевич схватил в свои объятия Улукиткана, закружился с ним возле костра, тяжело переставляя ноги. Вот он остановился, поставил старика против себя и спросил со всей серьезностью:
– А тебе, Улукиткан, делает кто-нибудь столько же приятного, как это можешь делать ты?
Старик, не торопясь, поправил сбитую на затылок ушанку и задумчиво поглядел на Василия Николаевича, видимо подбирая нужные слова.
– Мать лижет телка – ему приятно и ей тоже. Если от моей заботы вам хорошо, то от этого мне еще лучше. Человеку дано две руки, чтобы они помогали друг другу.