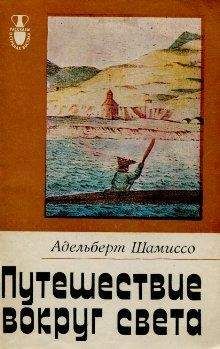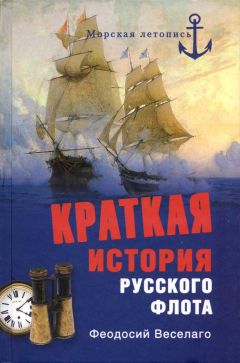— Здесь,— сказал мне Роберт Браун по дороге в Кью, куда он любезно меня сопровождал,— в этом доме, за этой дверью, находится статуя, о которой мы говорим.
Я ответил ему:
— Давайте же пойдем туда, постучим или позвоним; дверь откроют, и мы заглянем внутрь.
— Если вы хотите увидеть статую,— сказал хорошо знающий местные нравы и обычаи Браун,— то я напишу Джозефу Бэнксу; по его просьбе вы несомненно получите разрешение. Или же я напишу русскому и прусскому послам.
У меня не было привычки прибегать к серьезным средствам ради достижения весьма незначительных целей и применять систему блоков, чтобы поднять перо. Я отрицательно покачал головой, и мы пошли дальше.
Капитан Коцебу был в Лондоне одновременно со мной, но я видел его лишь мельком. Он установил контакт с русским послом, был представлен принцу-регенту и великому князю Николаю Павловичу. Он жаловался на то, что его время заполнено не тем, чем хотелось бы ему, и что он немногое увидел из того, что его интересовало.
Однако я — в Лондоне, а до сих пор ничего не сказал о нем. Можно ведь и в других местах найти коллекции по естественной истории и встретить ученых, готовых прийти на помощь иностранцу. Да и произведениями искусства многие города богаче Лондона.
Итак, я со знанием дела ходил по этому удивительному городу, который, находясь в состоянии возбуждения в связи с парламентскими выборами, раскрывал передо мной свою сущность. В Англии общественная жизнь развертывается публично со всем ей присущим: выборами, народными собраниями, демонстрациями и процессиями, всевозможными речами. То, о чем говорится за стенами, находит отзвук на улицах, которые в любое время дня переполнены зазывалами, людьми, выкрикивающими лозунги, распространяющими листовки, продающими газеты, а ночью светятся транспарантными изображениями и надписями. Стены лондонских домов с их политическими плакатами для иностранца, несклонного верить глазам своим,— это самая сказочная, удивительная, невероятная книга, которую он когда-либо видел. Здания берутся под охрану, а священные свободы предоставляют возможность любой силе, пусть даже разрушительной, действовать на открытом воздухе. Эти священные свободы, вероятно, позволят превратить столь необходимую, но слишком часто откладывавшуюся, перезрелую революцию, которую хотят осуществить в Англии, в спокойную эволюцию. На любой другой почве революция залила бы все отвратительной смесью из грязи и крови.
Герцог Веллингтон начал эту революцию не отвечавшим духу времени лозунгом: «No reform» («Никаких реформ»){230}. Он пустил корабль по воле ветра и течения, которые повлекли его неудержимо; тот же герцог взял теперь кормило государственной власти и собирается с зарифленными парусами провести корабль мимо скал, но в обратную, все время в обратную сторону от цели.
Будучи склонным к сравнениям, брошу взгляд сперва на Париж. Там las harizes del volcan (кратеры вулканов), предохранительные клапаны парового котла прикрыты. Общественная жизнь насильственно загнана в закрытые помещения и может вырваться наружу лишь в виде восстания или мятежа. На стенах Парижа рядом с театральными афишами можно видеть лишь объявления книготорговцев и другие, посвященные скорее частным делам. Тут купец расхваливает преимущества своего товара перед товарами соседа, там сеет мелкие раздоры, зависть и т. п.
За Рейном же еще не пробудились к общественной жизни, но то, что, несмотря на это, в Германии существуют деятельные, здоровые настроения, доказал 1813 год и будет доказывать каждый аналогичный этому звездный год. В Берлине на перекрестках можно еще прочитать афиши комедий и концертов, объявления о большом слоне, о силаче, вообще о зрелищах и, наконец, извещения о торгах и аукционах.
В Санкт-Петербурге никакой вид прессы не может демонстрироваться перед глазами народа. Стены содержатся в чистоте, а афиши комедий под полами шуб доставляются в те дома, где на них есть спрос.
Возвращаюсь к тому, с чего начал. На лондонских стенах я прочел плакат, в котором лорд Томас Кокрэн [Кокрейн]{231} прощался со своими избирателями из Вестминстера. Обрушив на головы министров поток ругани, он повел речь о герое, которого министры противозаконно держат в заточении на острове Св. Елены. Их самих, а не Наполеона следует держать в этой тюрьме. Надо его освободить, а их посадить за решетку. Если не найдется никого, кто решился бы это сделать, то это совершит он, лорд Томас Кокрэн.
В Лондоне сей воинственный манифест произвел не большую сенсацию, чем афиша оперы «Алсидор» в Берлине{232}. Таковы здесь нравы и обычаи.
Опоздав на полчаса, я не видел, как у избирательного помоста Вестминстера у Ковент-Гардена премьер-министра, выполнявшего свой долг избирателя, забросали грязью в знак протеста против его непопулярной политики; чисто народная забава, присутствовать при которой любознательный путешественник может считать для себя особой милостью судьбы.
Нам знакомы академические свободы молодежи, обучающейся в немецких высших школах, к числу которых принадлежит и метание в окно нелюбимому преподавателю различных предметов, что, правда, карается несколькими днями карцера, но отнюдь не рассматривается как заговор против церкви и государства. Однажды при таких обстоятельствах на письменный стол старого Иоганна Рейнгольда Форстера{233} брякнулся камень величиной с кулак; в гневе он схватил этот камень и, распахнув окно, швырнул его обратно с возгласом: «Его бросила лиса!»
Нечто похожее произошло в Лондоне, хотя и на английский манер, во время упоминавшихся выборов. Народ воспользовался своими бесспорными правами и неугодного ему кандидата на министерский пост забросал грязью. И тут не обошлось без камня, по крайней мере пострадавший утверждал, что в него попали камнем, отчего он и слег. По этому случаю были выпущены бюллетени, и сдается, что роковой камень был уравновешен голосами, полученными раненым. Когда я подходил к помосту, его соперник произносил речь, в которой касался этого происшествия. Он заявил, что тот, кто бросил камень, не мог быть англичанином — шумные аплодисменты собравшихся заглушили голос оратора.
26 июня 1818 года в 4 часа дня Гуннеман проводил меня к дилижансу, отправлявшемуся в Портсмут. Мои покупки, заботливо им упакованные, заполнили объемистый ящик, который я предусмотрительно с собой взял. Я обнял отныне незабвенного земляка и попрощался с мировым центром — Лондоном.
27 июня я был в Портсмуте. Писем для меня там не было; ни привета, ни весточки о дорогих мне людях в Англии я не получил.