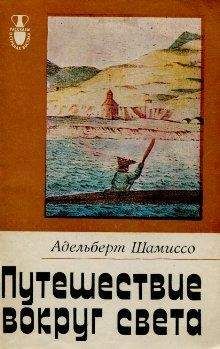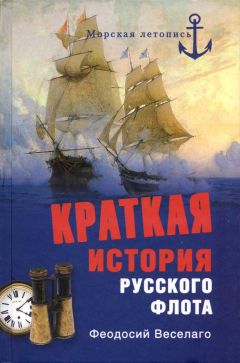Заслуживает похвалы та легкость и искусство, с которыми Каду приспособился к нашей среде. Новые условия для него были необыкновенно трудными. Будучи простолюдином, он внезапно был перенесен в круг столь превосходящих по могуществу и богатству чужеземцев, которые, однако, относились к нему как к почетному лицу, и простые матросы обслуживали его как высокого начальника. Не будем умалчивать о некоторых промахах, допущенных им вначале. Он сам исправлял их быстро и легко, не вызывая серьезных нареканий. Когда, вскоре после того как он обосновался у нас, на «Рюрик» прибыли радакские вожди, он выступил против них, причем жестикулировал и вел себя так, как подобало только вождям. В ответ он заслуженно получил безобидную издевку. Больше это не повторилось. Вначале Каду старался подражать походке и манерам капитана, но вскоре перестал это делать. Неудивительно, что на первых порах он смотрел на матросов как на рабов. Однажды он приказал вестовому принести ему стакан воды; тот спокойно взял его за руку, привел к бачку с водой и дал ему ковш, которым все пользовались, Он пришел в себя, понял, что за отношения существуют у нас, проникся духом наших нравов, быстро приспособился к ним, усвоил внешние правила поведения в повседневном общении.
Мало-помалу Каду познакомился с нашими горячительными напитками. Следует заметить, что поначалу матросы угощали его водкой. Когда же один из матросов был за это наказан, Каду разъяснили, что матрос виновен в том, что тайно пил огонь (так Каду называл водку). Больше он ни разу не пил водку, да и вино употреблял умеренно. Вид пьяных на Уналашке побудил его следить за собой. Вначале он по обычаю Эапа вызывал для нас попутный ветер; мы смеялись, и скоро он сам стал смеяться над этими заклинаниями и потом повторял их только в шутку, желая нас позабавить.
У Каду были хороший характер, смекалка, чувство юмора; чем ближе мы узнавали друг друга, тем больше он нам нравился. При его милом характере нам все же приходилось бороться с присущей ему леностью, которая не отвечала нашим требованиям. Больше всего он любил петь или спать. Когда мы расспрашивали его об островах, на которых он бывал или о которых знал, Каду отвечал на вопросы, если же его переспрашивали, он больше не отвечал, заявляя, что уже сказал все, что нужно. Если в ходе разговора мы обращали внимание Каду на то новое, о чем он умолчал ранее, он невозмутимо говорил: «А ты меня раньше об этом не спрашивал». Память у него была нетвердая. Воспоминания оживали постепенно, в зависимости от вызвавших их событий, но мы заметили вместе с тем, что обилие и многообразие объектов, привлекавших его внимание, сглаживали у него прежние впечатления. Песни, подхваченные им у народностей, среди которых он жил, и исполнявшиеся им на разных языках, служили ему одновременно книгой, откуда он черпал сюжеты для своих рассказов.
На корабле Каду вел своеобразный дневник по лунам, для чего завязывал узлы на веревке. Мы заметили, что он делал это очень неаккуратно, и поэтому не могли полагаться на его счет.
Нельзя сказать, что Каду был неспособен к учению или нелюбознателен. Казалось, он хорошо понимал то, что мы ему рассказывали о форме и строении Земли, о нашем мореходном искусстве. Но у него не было настойчивости, напряжение утомляло его, и он стремился ускользнуть к своим песням. Поняв тайну письма, Каду постарался постичь его, однако эти попытки были для него трудны и не дали особых результатов. Все, что ему рассказывали с целью пробудить его энергию, часто совершенно отнимало у него охоту. Он прерывал, а потом вновь возобновлял учение и наконец совершенно от него отказался.
Складывалось впечатление, что он хорошо схватывал то, что мы ему рассказывали об общественном порядке в Европе, о наших нравах, обычаях, искусстве. Лучше всего Каду воспринимал мирный, сулящий приключения замысел нашего путешествия, с коим он связывал намерение передавать народам, с которыми мы вступили в контакт, то, что идет им на пользу и служит их благу, понимая под этим прежде всего пищу. Он хорошо усвоил, что наше превосходство основывается на более обширных знаниях, и поэтому относился с уважением к нашим исследованиям и по возможности содействовал нам, даже если наиболее образованным из нас они казались не заслуживающими внимания.
Когда мы прибыли на Уналашку и Каду увидел эту голую, безлесную землю, он тотчас же обратился к нам с предложением посадить там в подходящих местах кокосовые орехи, имеющиеся на «Рюрике» (к ним он хотел добавить и свои собственные). Он даже требовал, чтобы мы это сделали, ссылаясь на то, что в этом нуждаются здешние жители, и весьма неохотно согласился с нашими доводами о том, что сие совершенно напрасно.
Его внимание привлекала прежде всего природа. На Уналашке он с любопытством наблюдал за рогатым скотом, припомнив, что еще раньше видел коров на островах Пелеу. Многие часы он проводил на пастбище. Но ничто его так не веселило, как стада морских львов и котиков на острове Св. Георгия.
Когда, вернувшись с острова Св. Георгия на корабль, мы беседовали о морских львах, причем Каду сам потешался и потешал нас, искусно подражая их движениям и голосу, его с серьезным видом спросили, видел ли он на прибрежных скалах их гнезда и яйца. Сколь неискушенным ни был Каду в вопросах зоологии млекопитающих, он сразу понял скрытую в этом вопросе шутку и весело рассмеялся вместе со всеми.
Подобно тому как во время плавания Каду тщательно собирал и заботливо хранил ненужные нам куски железа, осколки стекла и все, что казалось нам ненужным, но могло представлять ценность для его земляков, так и на Уналашке он отыскивал на берегу камни, которые можно было бы шлифовать.
Только один раз мы видели этого добродушного, кроткого человека в состоянии сдержанного гнева, даже ярости. Это случилось, когда он напрасно искал свои камни в укромном месте на «Рюрике», где он хранил их, а на его жалобы относительно пропажи никто не обратил особого внимания. Естественно, он счел себя оскорбленным.
Несмотря на свою бедность, Каду был весьма щедр и умел быть признательным. Он оказывал услуги тем из нас, от кого получал подарки, и, когда мы были на Ваху, воспользовался возможностью разумно продать разные мелочи, которые ему дарили, и преподнести всем, кто делал для него приятное, подарки, причем каждому такой, какой, по его мнению, ему понравится. Себе он оставлял лишь то, что могло обогатить или порадовать его земляков. Так, он раздал своим друзьям на Радаке все, что имел, оставив себе только одну драгоценность— ожерелье, которое долго носил, будучи на корабле. Однажды со слезами на глазах он поведал нам тайну этого ожерелья. На Табуаи (остров группы Аур цепи Радак) он бок о бок со своими новыми друзьями сражался против врагов, напавших с островов Медуро [Маджуро] и Арно. Он победил врага, готовясь пронзить его копьем. Однако в последний момент его руку схватила прибежавшая откуда-то дочь побежденного. Каду подарил ей жизнь отца, а она обещала ему свою любовь; он, мужчина, взял с собой драгоценный дар и теперь в память о девушке носил этот залог любви, полученный от нее на поле битвы.