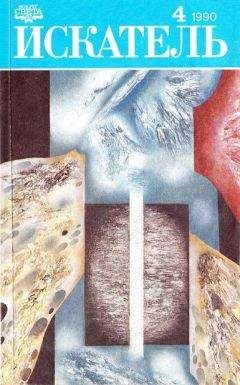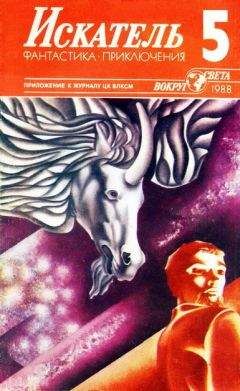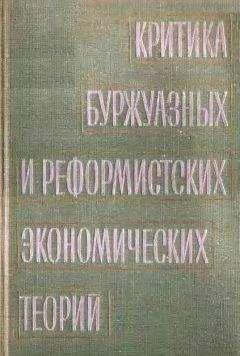— Можем, — дружно ответили купцы.
— Так вот им, а стало быть, и вам обоим. Первое: когда доставятся вложенные в одном ящике пятнадцать гербов Российской империи и десять досок железных с изображением на оных медного креста и медными литерами сказанных слов «Земля Российского Владения», то стараться без потеряния времени выставить оные гербы на твердой земле Северо-Западной Америки, называемой Аляска… Далее: я даю свое наставление, как зарывать и как описывать место зарытая… А вот… четвертое: зарывать стараться доски так, чтобы не только не видали оных тамошние жители, но скрыть и от наших русских работников… Пятое: если случится, что для такого же промысла придут суда других держав, то вы имеете право сказать, что земля и промысел на оной принадлежат Российской империи. И что оные сысканы первее нашими мореплавателями… Ну, дальше там требую: о человеколюбивом обращении с туземцами… о похвальном старании открывать новые земли… о хлебопашестве… Поняли?
— Да, ваше высокопревосходительство, исполним, — ответил Голиков, вставая и низко кланяясь наместнику.
Привстал и поклонился и Шелихов:
— Будет точно исполнена воля вашего высокопревосходительства…
Якоби встал, схватил трость и, по-стариковски ковыляя, направился во внутренние покои. Сделав несколько шагов, он остановился и, повернувшись к смотревшим вслед купцам, пальцем поманил к себе Шелихова.
Шелихов, цепляя носками сапог пушистый ковер, быстро обежал стол и приблизился вплотную.
— Я чуть было не забыл, — сказал Якоби и тихо спросил: — Как рапорт твой о странствованиях по островам и в Америку?
— Составлен, ваше высокопревосходительство.
— Хорошо, поскорее представляй, поторопись.
Шелихов низко поклонился и, пятясь, отошел к своему спутнику.
— Кораблишек бы да войска немного, — вполголоса проговорил Григорий Иванович, останавливаясь у запряженных сытыми лошадьми пролеток. — А он гербы да доски для зарытия в землю…
— Да, много так навоюешь «земель российского владения», — усмехнулся Голиков.
Но иронические замечания купцов не доходили до ушей вельможи.
5. «Российского купца Григория Шелихова странствование в 1783 году из Охотска по Восточному океану к американским берегам»
— Ну что же, Сергей Петрович, читай, слушаю, — вернувшись от Якоби, обратился Григорий Иванович к ожидавшему его секретарю и поудобнее уселся в глубокое кресло, крытое черной блестящей тканью из конского волоса. На сиденье и спинку кресла в зимнее время набрасывалась жесткая волчья шкура.
На столе перед секретарем Шелихова лежала объемистая рукопись, состоявшая из отдельных, мелко исписанных замысловатыми закорючками толстых синевато-зеленых листов шершавой бумаги.
Любовно и нежно прикрывая и поглаживая ее левой рукой, Сергей Петрович держал в заметно дрожащей правой основательную, наполненную до краев заморскую чарку в виде полушария. Украшенный аляповатым выпуклым гербом, тяжелый екатерининский штоф зеленоватого стекла опустошен был до половины и свидетельствовал о том, что собеседники уселись за стол не сейчас, хотя разложенные в мисочках соблазнительные закуски — зернистая икра, жирный балык, скользкие соленые рыжики — оставались нетронутыми.
Приглашение приступить к чтению заставило Сергея Петровича вздрогнуть. Он молча и быстро привычным жестом опрокинул чарку в рот и, не закусывая, тотчас же машинально налил другую, а затем, растерянно глядя на хозяина, стал беспомощно водить выпуклым дном чарки по скатерти, не находя, к чему ее прислонить.
Серьезные холодные глаза Григория Ивановича превратились вдруг в смеющиеся щелки, окаймленные сетью лучистых морщинок. Не повышая голоса, он протянул руку к чарке и оказал:
— Дай ужо подержу, — а затем расхохотался, когда Сергей Петрович, откинувшись всем корпусом назад и убирая таким образом подальше от протянутой руки наполненную чарку, опять стремительно опрокинул ее прямо в широкое горло, булькнул и уже пустую услужливым жестом сунул хозяину. На одно мгновение перед глазами Григория Ивановича мелькнула небритая, грязная шея гостя. Кожа на горле тотчас же дрябло обвисла, выпятился острый старческий кадык.
Веселая вспышка в глазах Шелихова погасла, и с участием в голосе он мягко повторил свою просьбу приступить к чтению.
— Григорий Иванович, — все еще держа руку на стопке бумаги, сказал секретарь, — я думаю, было бы весьма полезно прибавить к вашему повествованию посвящение его какой-либо знатной персоне, быть может, — он как-то поперхнулся, — всемилостивейшей матушке государыне.
Последние слова он произнес с нескрываемой иронией: ему трудно было называть так непосредственную виновницу дальней одинокой ссылки, которую он разделял вместе со своим сиятельным патроном. Однако патрон неплохо поживал, окруженный комфортом, в Томске. Дети его продолжали учиться в собственном курском имении. А бедный домашний учитель и гувернер Сергей Петрович Басов небрежным росчерком «высочайшего пера» был брошен безо всяких средств в далекую заимку на суровой Ангаре, откуда его извлек вездесущий Шелихов.
Тщетно пытался Григорий Иванович поставить на ноги хорошо образованного спившегося учителя, поручая ему некоторые свои дела, требующие тонкой грамоты. Терпеливо, иногда целые недели, он ожидал исполнения своих поручений, но, видимо, тщетно старался увлечь Басова своими широкими планами создания мощных русских колоний на Курильских, Алеутских островах, на Большой земле, как именовали тогда берега Северо-Западной Америки, и даже на почти забытом русскими малоизвестном Сахалине…
Разбираться в материалах путешествия на острова помогала Басову Наталья Алексеевна.
Стоял конец апреля, и, стало быть, зимнего пути на Петербург не захватишь. Нечего было и думать дожидаться пока подсохнут дороги, — в Петербург надо было торопиться, а хлопот еще по горло, причем одни дела требовали широкой огласки, шумихи, другие, наоборот, — глубочайшей тайны или участия только немногих избранных.
Самой глубокой тайной была покрыта затея издания собственной книжки о морских подвигах рыльского купца Шелихова: с одной стороны, было страшно засмеют, а с другой — заманчиво. Ведь прославишься на всю Россию. И только этот страх (засмеют!) останавливал Шелихова от посвящения книги «великодержавной матушке»… Но если не ей, то кому?
Перед мысленным взором Шелихова мелькнул образ хорошо ему известного, с большими связями Александра Николаевича Зубова. «Правда, этот пройдоха и взяточник, — думал Григорий Иванович, — всего только вице-губернатор и лишь мечтает о карьере в Санкт-Петербурге. Зато сын его, красавец Платоша, в конной гвардии и, говорят, частенько дежурит во дворце у императрицы. И кто знает, ведь Платоше, говорят, покровительствуют сам князь Салтыков и камер-юнгфрау царицы известная Мария Саввишна Перекусихина. Светлейший князь Потемкин далеко на юге и бессилен помешать Салтыкову. А заместитель светлейшего в Петербурге при Екатерине, Мамонов, что-то, по слухам, дурить начал: с какой-то фрейлиной в любовь играет…»