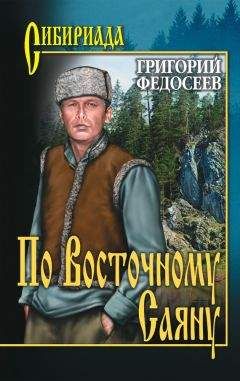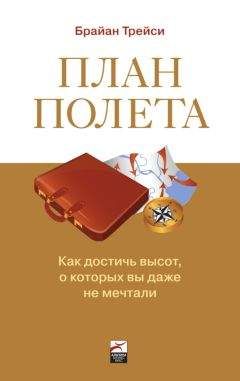Зверовых собак, и особенно тех, которые работают по медведю и копытному зверю, нельзя держать в палатке с собою, а перед охотой вообще следует избегать контакта с ними. Поласкаешь собаку, погладишь рукой и на шерсти оставишь запах пота. Потребуется два-три часа, чтобы этот запах потерял силу. Мы из жалости позволяли Бойке и Кучуму укрываться от непогоды в палатке, за что не раз были наказаны. Ведь ночуй вчерашнюю ночь собаки на открытом воздухе, не ушел бы медведь от них и дождался бы Василия Николаевича. Охотники, да и промышленники-зверобои недоумевают, почему от опытных собак иногда зверь бежит как очумелый. Все это будет понятно, если мы ясно представим силу обоняния у животных. Ни зрению, ни слуху звери так не доверяют, как именно чутью. Глаза могут обмануть его, как и слух, но обоняние – никогда! В запахах зверь разбирается превосходно. При встречном ветерке он чует человека более чем за километр, тогда как глазами плохо различает его на расстоянии трехсот метров.
Мы идем медвежьим следом, рассчитывая, что он приведет нас к загадочному месту, где, как нам кажется, собираются медведи. Собакам не удалось задержать зверя. Они вернулись с соседнего гребня, а медведь даже в паническом бегстве не изменил своему направлению, так и ушел на северо-запад.
На дне соседнего ущелья мы неожиданно спугнули небольшое стадо снежных баранов. Звери бросились на верх отрога и задержались на границе леса серым сомкнутым пятном. Там, вблизи скал, они, видимо, считали себя вне опасности и, наблюдая за нами, настороженно вытягивали шеи.
Животные были хорошо видны в бинокль. Их тринадцать: четыре прошлогодних телка, а остальные самки различных возрастов. Часть из них стельные. В стаде не было ни одного взрослого самца, даже двухлетнего. Видимо, в это время года они держатся отдельно от самок.
Нас разделяло расстояние более четырехсот метров. Мы только тронулись, как стадо баранов разомкнулось, вытянулось в одну шеренгу и стало поспешно удирать к скалам.
– Зрячий зверь, ишь, как далеко хватает, – бросил Василий Николаевич.
Мы вышли к их следам. Звери избороздили берега ключа, островки, оставив после себя множество лунок, выбитых копытами в гальке. Нам уже приходилось видеть такие лунки на солнцепеках Станового, поэтому было интересно проверить свои первые наблюдения. Оказывается, стадо спускалось с вершин гор на дно ущелья кормиться. Тут были бесспорные доказательства того, что снежные бараны ранней весной охотно поедают корни различных многолетних растений и что, разыскивая их, они спускаются до лесной зоны и даже проникают далеко вглубь тайги. Вокруг чудесный майский день. Маревом расползлась по горам теплынь; весело перезванивались ручейки.
К концу дня след медведя привел нас к вершине безыменного притока реки Уюма. Редкая лиственничная тайга прикрывала падь. Кое-где по заснеженным склонам пятнами чернели отогретые стланики и шершавые россыпи. Нас встретил однообразный крик кедровок, а несколько ниже на глаза попались свежие отпечатки лап двух медведей. Мы замедлили шаги, насторожились и стали более придирчиво осматривать местность. Кругом наследили глухари, наторили тропок грызуны. Наш путь пересекли следы соболя. Какое-то оживление заполнило впадину. Да и по поведению Бойки и Кучума легко можно было догадаться, что окружающая нас падь заселена живыми существами, раздражавшими их своим запахом.
– Надо бы разобраться, с чего это птица кричит и почему зверь тут топчется, – сказал Василий Николаевич, останавливаясь и устало опускаясь на валежину.
Мы тоже присели. Солнце дремало у горизонта. Вечерело. Не смолкая, перекликались кедровки. Я в бинокль стал бегло осматривать впадину. Слева ее урезали ребристые гребни, развалины скал. А справа тянулись россыпи, покрывающие крутые склоны левобережного отрога. Дно впадины имело корытообразную форму и было затянуто чащей из стланика, березки и ольхи. Взбунтовавшийся ручей скользил мутным потоком поверх заледеневшего русла.
– Кажется, медведь пасется на нижней проталине. Видите? – шепчу я своим спутникам.
– Где? – всполошился Василий Николаевич.
– К ручью подходит, смотрите, у крайней лиственницы.
– Ну да, медведь, вижу, – и он метнул беспокойный взгляд на солнце, заторопился. – Уходить надо отсюда, место узкое, учует нас, да и день на исходе.
– Куда же пойдем?
– Вниз, заночуем в боковом ложке, а там видно будет, утро вечера мудренее, – и Василий Николаевич, накинув на плечи котомку, зашагал по склону.
Приблизительно через два километра мы попали в маленькую лощину, запертую со стороны пади тайгою. На дне ее виднелась крошечная поляна. Одним краем она уперлась в лес, а противоположным – в ручеек, шумливо пробегающий по каменистому дну лощины.
В независимой жизни путешественника есть одна бесспорная прелесть: в любое время он может оборвать свой путь и сказать себе: «Здесь ночуем». Так было и на этот раз. Увидев полянку, мы, не задумываясь, свернули к ней. Место для стоянки оказалось удобным. Здесь было все, что создает «комфорт» путнику: лес мог надежно защитить нас от холодного ночного ветра; дрова и вода были рядом; мох же, чем была устлана поляна, мог послужить прекрасной подстилкой для постели. Большего мы и не желали.
Собираем дрова, разжигаем костер, варим ужин. Вечереет быстро. Далеко за горами одиноко гаснет лиловая заря. По ручейку мороз кует узоры. Впадина погружается в молчание, и только болтливые кедровки все еще продолжают о чем-то спорить, да в седых кронах елей устало перешептывается стайка перелетных птиц. За день мы настолько измотали свои силы, что, кроме сна, никакой награды не нужно.
Ночь пролетела в беспокойных отрывках: то затухал костер и холод безжалостно расправлялся с нами, то мы вскакивали, принимались подкармливать сушняком ненасытный огонь и снова укладывались спать. Василий Николаевич рано вскипятил чай, и мы до рассвета успели позавтракать.
– Пора, – сказал он, беспокойно поглядывая на небо. – Вот-вот зориться начнет.
Мы стали собираться. Идем вдвоем. Пресников с собаками остается на стоянке. Спускаемся с Василием Николаевичем в ключ и там расходимся. Он сворачивает влево, уходит по крутым каменистым гребням, намереваясь обойти впадину с северо-западной стороны. Я же иду вправо.
Лыжи крошат ломкий наст. Над сонными горами поднимается огромное солнце. Но вокруг все молчит: не поют птицы, не шумят ручьи. Огибаю крутую россыпь, заплетенную стлаником, и выхожу на верх пологого гребня. Осматриваюсь – нигде никого нет, только левее в ложке тревожно кричат кедровки.
Крадусь по кромке надува, зорко смотрю на заснеженные склоны впадины. Но все живое как будто еще спит или прячется, не желая покинуть нагретые за ночь места. Прохожу последний перешеек и не верю глазам: только что до моего прихода наследила медведица с медвежатами. Руки невольно схватились за ружье.