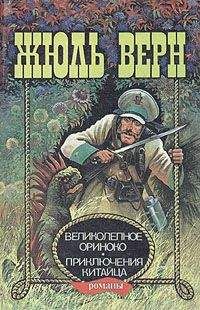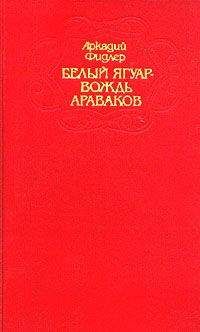— Все верно, сеньор кабальеро, ты все понял правильно, — подтвердил он с оттенком высокомерия, тоном, каким обращаются порой к скудоумному простаку, — все верно, но лишь отчасти. Араваки действительно станут образцовым и счастливым племенем после возвращения этих пятидесяти человек, но в Венесуэле есть и другие племена, более счастливые, уже познавшие прелести нашей цивилизации.
— О, и впрямь позавидуешь этим племенам! — воскликнул я.
Испанец отпрянул, ибо я выкрикнул это гораздо громче, чем того требовало выражение простого удивления. Двусмысленность моих слов и выражение лица он приписал тому, что я, как иностранец, неправильно выразился, плохо владея испанским языком.
Сделав широкий жест рукой, дон Эстебан проговорил:
— Я знаю, вы прибыли сюда ненадолго, и знаю также, что, несмотря на это, вы пользуетесь у араваков большим почетом. Не у всех, правда, но у тех, что пришли с вашей милостью и признали вас своим вождем. Конесо подговаривал меня взять в Ангостуру ваших индейцев и негров, но я не стану этого делать, ибо они только что прибыли сюда и ничего в долг у меня не брали, а брали люди Конесо. Теперь же, когда пришло время отдавать людей, Конесо юлит и уверяет меня, что людей у него нет, а те, кого он хотел мне отдать, будто бы убежали в лес. Я знаю, часть действительно убежала, но многие еще остались. Поэтому я прошу, ваша милость, заставь глупых понять свое благо и добром отправляться в Ангостуру. А если Конесо не выдаст мне всех пятьдесят человек, передай ему от меня, я сдеру с него шкуру.
— А что это за люди там стоят? — спросил я, указывая на группу араваков, окруженных неподалеку от нас охраной из числа индейцев чаима. — Чего они ждут?
— Они пойдут с нами. Но их только двадцать три, а мне нужно пятьдесят.
— Что-то они очень уж невеселы.
— Потому что глупы! Не знают, что их ждет…
— А может, слишком хорошо… знают?!
Я произнес эти слова медленно, чуть ли не безразлично, но дон Эстебан снова устремил на меня острый взгляд, настороженный и, как вначале, невыразимо холодный. Он подошел ко мне вплотную. У него были черные нависшие брови, длинные густые ресницы, серые, как свинец, глаза, что придавало его лицу твердое, стальное выражение. Губы его перестали улыбаться и сжались в жесткую складку.
— Сеньор кавалер! — произнес он злобно, чуть ли не дыша мне прямо в лицо. — Сеньор кавалер, надеюсь, ваша милость хорошо слышал и оценил значение того, что я только что сказал.
— Я не совсем понимаю, о чем идет речь. Прошу повторить.
— Я заверил вашу милость, что пощажу ваших людей и не трону их.
— Ах так! Спасибо за доброту, дон Эстебан.
— Но я иду на это с расчетом, что в интересах сеньора помочь мне собрать пятьдесят человек.
— А если и я, подобно аравакам, не сумею оценить своего блага, так ли уж тяжек будет мой грех?
— Теперь я не понимаю, ваша милость! Говори ясней!
— Если я не помогу вашей милости?
Дон Эстебан прищурил глаза, словно целился в меня из невидимого ружья.
— Не думай, сударь, что и прежде я не замечал твоих шуточек! Теперь же ты явно издеваешься! Ладно, тогда шутки в сторону! Если ты не сделаешь того, о чем тебя просят, может случиться, я вспомню, что советовал мне Конесо относительно твоих людей.
— Это угроза?
— Как угодно, сударь, возможно, и угроза!
Изобразив на лице крайний испуг, я покачал головой… и разразился громким смехом.
— Пусть сударь соблаговолит простить меня за дурные манеры, но в голову мне пришла забавная мысль: а что, если и мои люди сбегут в лес, как и прочие, что тогда?
— А разве ты не в моих руках как заложник?
— А если и я убегу?
— Ничего не выйдет, ваша милость: мои люди знают дело и отлично стреляют.
— Позволь, сеньор, обратить внимание твоей милости на то, что и у моих людей есть ружья.
Дон Эстебан пренебрежительно пожал плечами.
— Ха, индейцы — скверные стрелки!
— А может быть, не все!
Мы продолжали стоять — слишком уж долго! — на том же месте, где обменялись рукопожатием, в десятке шагов от главного тольдо. Под этим просторным навесом, ожидая нас, сидел на табурете Конесо, рядом с ним стоял Манаури, как переводчик, и тут же вожди Пирокай и Фуюди, а за ними несколько лучших воинов при оружии. Шамана Карапаны видно не было.
— Прежде чем ответить вашей милости, — обратился я к испанцу, вновь становясь серьезным, — прежде чем произнести свое последнее слово относительно позиции, какую я займу по поводу сделанного предложения, позволь мне сначала поговорить с людьми, отобранными в Ангостуру, и разобраться в обстановке.
Дон Эстебан с минуту колебался, но, заметив мою усмешку и не желая показаться трусом, поспешил согласиться:
— Пожалуйста…
Я подозвал к себе Манаури и, направляясь к группе пленников, попросил его коротко рассказать, что здесь происходило до моего прихода. Вождь подтвердил все, что я уже знал от Арипая и дона Эстебана. Когда он закончил, я переспросил:
— Эти двадцать три человека под охраной действительно все наши сторонники, от которых Конесо хочет избавиться?
— Все, как один.
— Ни одного из своих Конесо не дал?
— Ни одного.
— Вот дрянь!.. А те шесть воинов, что стоят с оружием за спиной Пирокая и Фуюди, кто они?
— Охрана верховного вождя. Трое из них — сыновья Конесо, один — мой племянник, сын Пирокая, два других — братья Фуюди: сплошь близкие родственники.
— Поглядывай за ними, как бы они не пустили предательской стрелы. А пока иди к Вагуре, возьми мой мушкет и сразу же возвращайся! Мушкет заряжен картечью. Потом пойдем вместе к пленникам…
— А дон Эстебан разрешит?
— Уже разрешил.
— Глупец!
— Нет, не глупец: слишком самоуверен и хвастлив.
— Будем драться, Ян?
— Пока не знаю. Может, удастся избежать…
Едва Манаури вернулся, мы тут же направились к несчастным, окруженным стражей. Они стояли посреди поляны, сбившись в жалкую беспомощную кучку, теснимую со всех сторон индейцами чаима. Чаима выглядели воинственно. Это были воины-карибы, жившие на льяносnote 1 к северу от Ориноко. На груди у каждого висел латунный крестик вместо обычных талисманов — они и впрямь были христианами.
Пленники, заметив, что я направляюсь к ним, подняли головы и оживились, словно стряхнув с себя оцепенение. В глазах у них вспыхнули проблески надежды.
— Вы по доброй воле идете с испанцами? — спросил я у них.
Вопрос прозвучал чуть ли не как оскорбление или насмешка: все бурно запротестовали.
— А если так, то отчего вы не убежали, отчего не защищались?
Один из пленников постарше, лет тридцати, ответил: