Настоятель, выразив озабоченность состоянием короля, предоставил Сантойо самому убедить его величество как можно скорей послать за исповедником. Желая вознаградить такое рвение и верность королю, отметить и поощрить ревностность Сантойо в делах религии, настоятель щедро одарил и благословил королевского слугу. Теперь фрай Диего с большей уверенностью дожидался вызова к королю.
Сантойо взялся за дело хитро и отложил разговор до тех пор, пока не представится благоприятная возможность.
Филипп II, по обыкновению, корпел над документами в своем кабинете-келье. Сантойо принимал у него документы, присыпал, если требовалось, порошком и передавал секретарям, не спуская глаз со своего хозяина.
Тем временем король прекратил работу, вздохнул и устало провел рукой по бледному лбу. Потом он потянулся за следующим документом из пачки, лежавшей справа на столе, но не смог его вытянуть. Король повернулся и увидел, что Сантойо придерживает пергамент рукой и озабоченно всматривается ему в лицо.
– В чем дело? – послышался монотонный, похожий на гудение насекомого, голос короля.
– Не хватит ли на сегодня, ваше величество? Вам ведь немоглось ночью. Вы, видать, притомились, ваше величество.
Сантойо никогда ничего подобного себе не позволял, это граничило с нахальством. Король глянул на него бесцветными холодными глазами и тут же опустил их: он не мог вынести взгляда даже своего слуги.
– Притомился? – промямлил король. – Я?
Но предположение повлияло на болезненное, хилое тело. Он убрал руку с пергамента, откинулся на стуле и закрыл глаза, чтобы, сосредоточившись на своем состоянии, определить, правду ли говорит слуга. Филипп подумал, что он и вправду устал, и открыл глаза.
– Сантойо, что сказал о моем здоровье Гутьеррес?
– Похоже, решил, что вы перебрали пирожных…
– Кто сказал ему, что я ел пирожные?
– Он выспрашивал у меня, что вы ели, ваше величество.
– И он, желая скрыть собственное невежество, прицепился к пирожным. Осел! Какой бестолковый осел!
– Я ему так и сказал, ваше величество: вы, мол, заблуждаетесь.
– Ах вот как! Ты сказал, что он заблуждается. Смотрю, ты прямо в лекари метишь, Сантойо!
– И лекарем быть не нужно, ясно, отчего вам неможется, ваше величество. Я так и сказал Гутьерресу: дело не в желудке, тут дело духовное.
– Молчи, дурак! Что ты знаешь о моем духе?
– То, что слышал от вас, ваше величество, когда вас прихватило ночью. – И торопливо добавил: – Фрай Диего де Чавес сказал вам что-то в пятницу. Его слова не давали вам покоя, ваше величество. Пусть настоятель монастыря Санта-Крус исцелит рану, которую сам же и нанес, и вернет покой душе вашего величества.
Напоминание разбередило душу короля. В памяти всплыл образ, с тех пор преследовавший Филиппа. В то же время он убедился в проницательности Сантойо. Король пробормотал что-то невнятное, потом взял себя в руки и снова потянулся за документом. На сей раз Сантойо не рискнул помешать ему. Но пока он писал свою резолюцию, Сантойо быстро переворошил кипу бумаг, и пергамент, лежавший внизу, оказался сверху.
Так Сантойо еще более зримо проявил свою проницательность. Прекрасно сознавая, что тревожит короля, какой взрыв ярости и страха, какое противодействие вызвало письмо королевы Елизаветы, он заключил: надо эти чувства подогреть, тогда его величество будет искать утешение у исповедника, как и было задумано.
Письмо, которое он счел нужным положить сверху, руководствуясь принципом «куй железо, пока горячо», было от герцога Медины-Сидонии, возглавившего гибельный поход против Англии. Оно очень кстати пришло в то утро.
Опальный герцог скромно извещал короля Филиппа, что продал одно из своих поместий, чтобы собрать огромную сумму выкупа за отважного адмирала Педро Валдеса. Это была его малая лепта, писал герцог и просил расценить ее как выражение любви и преданности, искреннего желания вернуть на службу Испании ее самого талантливого адмирала.
Письмо задрожало в помертвевшей королевской руке. Он откинулся на строгом монашеском стуле, закрыл глаза и застонал. Потом так же внезапно открыл их и разразился воплями:
– Безбожница! Незаконнорожденная тварь! Проклятая еретичка! Дьявол, оборотень!
Сантойо участливо склонился над хозяином.
– Ваше величество! – прошептал он.
– Я болен, Сантойо, – задребезжал монотонный голос. – Ты прав, я больше не буду работать. Дай руку.
Тяжело навалившись на слугу и опираясь на палку с другой стороны, король вышел из комнаты. Сантойо, будто невзначай, снова помянул фрая Диего де Чавеса, осведомившись, не желает ли его величество получить совет исповедника. Его величество приказал ему помалкивать, и Сантойо не решился настаивать.
Ночью король снова плохо спал, хоть и не ел накануне пирожных, – по крайней мере, на них нельзя было свалить вину. Вероятно, страшные видения, вызванные несварением желудка в воскресенье, отпечатались в мозгу и теперь повторялись без постороннего влияния. Впрочем, их появлению, несомненно, способствовало письмо Медины-Сидонии об отправке выкупа за отважного Валдеса – его голова чаще всего напоминала о себе в воображаемой кровавой груде на королевских коленях: либо она первой упадет на плахе, либо королева Елизавета возвестит, смеясь, что принудила Филиппа Испанского подчиниться.
Еще сутки навязчивых видений, еще одна бессонная ночь, и наконец утром в среду король согласился со своим слугой, неоднократно предлагавшим вызвать исповедника. Возможно, его подсознательно мучила мысль, что аутодафе назначено на завтра, еще сутки промедления, и будет поздно что-либо предпринять.
– Ради бога, – крикнул он, – пусть фрай Диего придет. Он вызвал этих призраков, пусть он их и изгоняет.
Настоятель Санта-Круса не заставил себя долго ждать. С каждым часом его лихорадочное нетерпение нарастало. Оно уже достигло такой точки, что, если бы король и не послал за ним, он собирался сам явиться к его величеству на правах исповедника и в последний раз уговорами, доводами, на худой конец, угрозами спасти брата. Но то, что король прислал за ним, хоть и поздно, было хорошей приметой. Стало быть, пока не стоит прибегать к крайним мерам.
Спокойный и невозмутимый, вошел осанистый исповедник в королевскую спальню; он отпустил Сантойо, закрыл дверь и подошел к огромной резной кровати. Строгая комната была залита солнечным утренним светом.
Фрай Диего пододвинул табуретку, сел и после банальных вопросов по поводу здоровья короля и в ответ на его жалобы предложил его величеству исповедаться, сбросить с души мучительный груз, который, вероятно, и задерживает исцеление плоти.
Филипп исповедался. Фрай Диего прощупал королевскую совесть вопросами. Как хирург, рассекая тело, открывает невидимое взгляду, так и настоятель монастыря Санта-Крус обнажал страшные тайники королевской души.
Исповедь закончилась, и перед долгожданным отпущением грехов фрай Диего поставил диагноз душевному состоянию короля Филиппа.
– Все ясно, сын мой, – произнес он отеческим тоном, приличествующим человеку его положения. – Вам неможется, потому что вас одолели два смертных греха. Вы не поправитесь, пока не отречетесь от них. А если не отречетесь, они вас погубят – отныне и навеки. Несварение, следствие греха чревоугодия, наслало на вас мучительные видения – следствие смертного греха гордыни. Остерегайтесь гордыни, сын мой, первого и самого страшного из всех грехов. Из-за гордыни Люцифер лишился небесной благодати. Если бы не гордыня, не было бы дьявола, не было бы искусителя и грехопадения. Это самый большой подарок Сатаны человеку. Мантия гордыни так легка, что человек и не сознает, что носит ее на плечах, а в ее складках прячется все зло мира, обрекающее человека на вечное проклятие.
– Господи Иисусе! – прогудел король. – Всю жизнь учился смирению…
– А видения, о коих вы мне поведали, видения, преследующие вас ночами, – откуда они взялись, как вы думаете? – перебил короля исповедник, на что никогда не решился бы никто вокруг.
– Откуда? От жалости, от страха, от любви к благородным сеньорам, которых злобная еретичка собирается обезглавить.
– Если вы не изгоните из сердца гордыню, мешающую вам протянуть руку и спасти их.
– Что? Подобает ли мне, королю Испании, склонить голову перед наглым ультиматумом еретички?
– Нет, если подчиниться смертному греху гордыни, требующему, чтобы вы с высоко поднятой головой принесли на алтарь гордыни восемь благородных сеньоров.
Король сморщился, словно от физической боли. Но он тут же взял себя в руки, будто вспомнил нечто, упущенное ранее и способное спасти его от позора.
– Даже если бы я захотел, я бессилен помочь. Это вне моей компетенции. Я всего лишь король Испании. Я не распоряжаюсь святой инквизицией. Я не смею вмешиваться в дела Господа. Я этого себе не позволяю, я – кого вы обвиняете в гордыне.
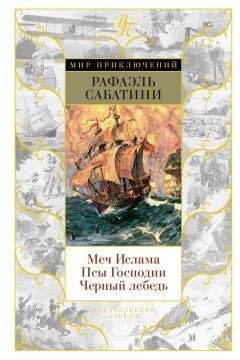

![Rick Page - Make Winning a Habit [с таблицами]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)

