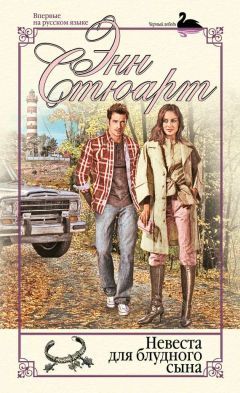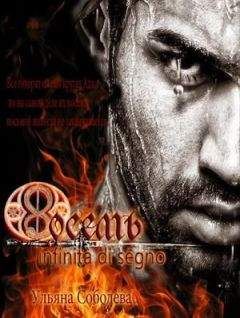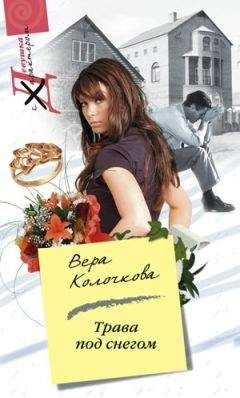Для большей надёжности швартовку Непрядов взял на себя. Возвышаясь над обвесом рубки, он с усилием выдавливал через раструб команды. Взбесившийся ветер заглушал их. Большого труда стоило прижаться к пирсу, не помяв обшивки лёгкого корпуса. А сделать это под напором расходившейся волны оказалось не так-то просто. Всё перемешалось, спуталось, схлестнулось в неистовой толчее стеснённого пространства бухты. Электромоторы выли, изнемогая болью перегрузки. В свете прожектора по палубе ошалело метались люди в оранжевых спасательных жилетах, растаскивая стальные троса. Ветер валил с ног, слепил глаза, леденил холодом душу. И без передышки крыл матом боцман, распоряжавшийся на баке.
Наконец, лодка притерлась бортом к тугим плетеным кранцам, унялась и успокоилась, как могла. Лишь швартовы продолжали стонать, напрягаясь в извечном подвиге великомучеников.
Приведя механизмы в исходное положение, команда сошла на берег. Егор видел, как намаялись и устали его ребята за этот недолгий поход. Но всё же на лицах заметно было, столь знакомое и ему самому, удовлетворение всем тем, что они в море сообща исполнили. Теперь нет больше изнурительной качки, под ногами вновь ощущалась надежная твердь земли. Сама душа в успокоении расслаблялась и пела. Все уже предвкушали жаркую парилку в бане, ужин с обещанными жареными пончиками и свежие простыни, на которых приятно растянуться, отходя посоле отбоя ко сну. Да много ли нужно матросу, вернувшемуся с морей? В том и состоит прелесть моряцкой службы, что позволяет она даже в ничтожной малости, хоть на мгновенье, находить полнейшее удовлетворение своей судьбой. Было бы дело сделано, да не поскупился бы на похвалу сам командир, если уж, на худой конец, не придира-боцман.
На другой день ветер стал понемногу стихать, снегопад прекратился. Дела и заботы дали Непрядову передышку, и он решил наведаться в своё береговое жилище.
Квартира на третьем этаже блочной пятиэтажки оказалась довольно запущенной и грязной, поскольку её держали прозапас и в ней давно никто не жил. Почти весь остаток дня Егор потратил на то, чтобы привести комнаты в порядок. Как в курсантскую бытность, облачился в синюю робу, закатал до колен штанины и принялся мыть, скрести, чистить, пока всё вокруг не заблистало чистотой. От прежних хозяев оставалась кое-какая убогая казённая мебель, но и её по егоровой неприхотливости вполне хватило для скромного и поневоле холостяцкого бытия. Излишний комфорт, с культом дорогих и ненужных вещей, он по-прежнему не любил. С убеждённостью отшельника «подводной обители» он и на берегу полагался лишь на самое необходимое, что всегда должно быть к месту и под рукой.
Если бы он, как прежде, ждал к себе Катю, то мог бы расстараться, обставив квартиру более подходящей мебелью — по распределению в военторге ему предлагали вполне приличный чешский гарнитур. Но ради чего стоило создавать уют, если всё равно нет огня в его семейном очаге? И Егор без сожаления отказался от того гарнитура, поскольку он старпому Тынову был нужнее.
Переделав неотложные дела, Непрядов долго сидел за пустым столом. Он отрешённо глядел на голое окно, в котором стояла густая чернота полярной ночи. Настало какое-то изнеможённое отупение, когда не хотелось даже пальцем шевельнуть. Он и сам не заметил, как в душу змеёй подколодной вкралась тоска. Она растеклась по всему телу, расслабляя мускулы и волю, парализуя разум. И уже ни о чём не хотелось думать и ничего не хотелось делать. Вот когда бы хоть раз в жизни напиться так, чтобы самого себя не помнить. Будь Кузьма на его месте, он бы по простоте душевной так бы и поступил, махнув на всё рукой. Но Егор и такой бесшабашной малости позволить себе не смел. Даже на берегу, в домашней обстановке, субмарина продолжала входить в его кровь и мозг сильной дозой отрезвляющей инъекции. Она всё время исподволь держала его в напряжении, не давая и шагу ступить без помыслов о ней. И всё-таки, тоска сильнее была его командирского подсознания, ограниченного рамками служебной необходимости. Лукавым искусителем она нашёптывала, что он обыкновенный смертный человек, не без собственных грехов и слабостей. Который раз, прорываясь через паутину отупения и мрака неведомых расстояний, обращался он мысленно то к жене, вновь затерявшейся со своей цирковой труппой неведомо в каких краях и весях, то к сынишке, росшему целиком под бабкиной опекой, без родительской заботы и ласки. Егор не считал себя слабым человеком. Но здесь он был бессилен что-либо изменить. Судьба распоряжалась им по собственному усмотрению, не оставляя даже просвета на своём неясном, сумрачном горизонте.
Как Егор ни старался, опять ничего так и не придумал. Голова лишь разболелась. Чтобы хоть как-то прийти в себя и упорядочить мысли, решил немного проветриться.
Надев шинель, он спустился по лестнице и вышел на улицу. Свежий, с морозцем, воздух тотчас взбодрил, развеивая гнетущее состояние и облегчая душу. Под ногами чуть пожмыхивала пушистая снежная крупчатка. Сквозь поредевшие тучи лезвием прорезалась ущербная луна, заискрились голубые звёзды и даль окрест раздвинулась, обнажая смутные очертания дальних сопок.
В наступившем безветрии посёлок ожил, повеселел. У соседних домов с криком и со смехом резвилась ребятня. Поблизости из репродуктора доносилась музыка. А в отдалении, со стороны пирсов, слышалось громыхание и вой лебедки. Там, надо полагать, шла неурочная погрузка торпед в чрево одной из лодок, собиравшейся экстренно выйти в море.
Непрядов бесцельно побрел вдоль улицы, распахивая яловыми сапогами ещё не тронутую целину снега. Дышалось легко и свободно, полной грудью. А музыка, спокойная и умиротворённая, текла за ним следом. Как догадался, передавали что-то из «Времён года» Чайковского. Потом он все же определил, что это — меланхолический «Ноябрь», тот самый, который, по его разумению, никуда не звал, не торопил и ни к чему не обязывал. «Как это кстати», — с облегчением подумалось. И оттого, видимо, глухая тоска исподволь сменилась просветлённой и тихой грустью. Так случалось почувствовать себя разве что в детстве, когда начинала проходить мимолётная и пустячная обида, о которой уже вскоре можно будет позабыть. В эти мгновенья совсем не хотелось думать о службе: пускай идёт своим путём, как ей положено. Да и куда ж она от него денется? Егор невольно размышлял о самом себе, вновь пытался разобраться в том, как оказался он в незавидном положении едва ли не отставного супруга и совсем никудышного отца. Его считали волевым, толковым командиром. Даже если он в чём-то по малости оступался, ему заведомо была обещана индульгенция — в силу накопленного им опыта и знаний, с которыми все считались. Но знал бы кто, насколько беззащитным и слабым порой считал себя Егор, как только дело касалось его личной жизни. Здесь все его вольные или невольные просчёты и промахи будто стократ множились, не оставляя малейшей надежды на снисхождение. А зацепиться можно было разве что за собственную выдержку и долготерпение, доставшиеся по наследству от дедовых страданий.