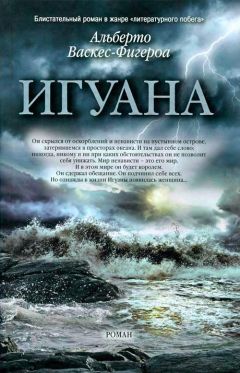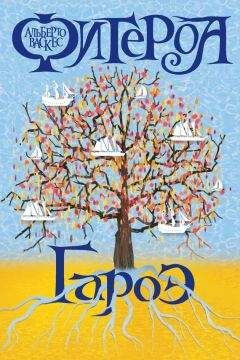Затем обратился к чилийцу:
— Ты! Покажи-ка французам, скольких у тебя не хватает.
Подождал, пока Мендоса поднимет руку и продемонстрирует изувеченную руку, и прибавил прежним тоном.
— Я не сторонник пустых угроз. И никогда не оставляю невыполненными свои обещания. Тот, кто будет меня слушаться, будет жить спокойно, а кто считает себя слишком умным, пожалеет, что появился на свет.
Он подождал, пока француз, говоривший по-испански, переведет его слова своему товарищу, а затем прочертил в воздухе воображаемую линию, от высокой скалы, служившей ему дозорной вышкой, до самого центра северной бухты, и сказал:
— Вот граница, которую вы не смеете нарушать, французы — с одной стороны, чилиец и норвежец — с другой. Тот, кто на это осмелится, простится с жизнью.
Затем показал на колокол, снятый с фрегата «Мадлен» и висевший теперь на ветке, и добавил:
— Как только я ударю в колокол, вы должны немедленно явиться сюда. А тот, кто придет последним, получит от меня десять ударов кнутом. Уразумели?
— То, что вы делаете, это похищение и пиратство, — заметил Доминик Ласса, француз, говоривший по-испански. — А это по морским законам карается виселицей.
Его похититель не смог сдержать радостной улыбки.
— И кто же это собирается меня повесить? — проговорил он с сарказмом — Случаем, не ты? Морские законы здесь не действуют. Тут имеет силу только закон Оберлуса, и то, что я скажу, — хорошо, а то, что считает кто-либо другой, — плохо. Хочешь, я тебе это докажу?
Доминик Ласса взглянул на обрубки пальцев Себастьяна Мендосы и отрицательно покачал головой.
— Так-то лучше! — воскликнул Оберлус — Вы, французы, слывете хорошими поварами, — продолжил он. — Ты как?
Ласса кивнул на товарища:
— Он лучше.
— Хорошо. В таком случае скажи ему, что он займется кухней, ты будешь поставлять ему мясо и рыбу, на попечении Себастьяна останутся грядки и водоемы, а недоумок норвежец остается у него на подхвате и будет собирать все, что вынесет на берег море. — Он указал на второго француза: — Как его зовут?
— Жорж, — ответил Доминик Ласса.
— Скажи своему приятелю Жоржу, что я заставлю его снимать пробу со всего, чем он вздумает меня потчевать, дабы ему не пришло в голову попытаться меня отравить. Вряд ли мне нужно вам объяснять, что всякое покушение на мою жизнь будет немедленно караться смертью. — Игуана Оберлус махнул рукой. — А сейчас ступайте. За работу!
Он подождал, пока пленники отойдут на двести метров, и, протянув руку, дернул за веревку колокола и настойчиво позвонил.
Спотыкаясь и падая — виной тому были короткие путы на ногах, — все четверо поспешили обратно. Их бег являл собой трагикомическое зрелище: они передвигались прыжками, отталкиваясь обеими ногами, и даже на четвереньках. Оберлус схватил одну из плетей, которые забрал с фрегата, и направил на норвежца, прибежавшего последним.
— Ложись на землю! — приказал он, сделав властный жест, который слабоумный пленник немедленно понял. — Живо!
Оберлус нанес ему десять обещанных ударов плетью и велел Мендосе помочь норвежцу подняться.
— В следующий раз буду бить сильнее, — сказал он. — Я могу стегать очень сильно, когда захочу. Пока это всего лишь предупреждение. Проваливайте!
Молча понурившись, терзаемые страхом, болью и гневом, четверо пленников разошлись в разные стороны.
Игуана Оберлус проводил их взглядом, пока они не скрылись в зарослях, вынул из кармана старую почерневшую трубку — вероятно, кому-то из погибших членов команды «Мадлен» ее подарила жена, — не торопясь, раскурил ее, с удовлетворением затянулся и выпустил густое облако дыма.
Хозяин.
Он был полновластным хозяином, и осознавал это.
— Чем это ты занимаешься?
Он неожиданно появился сбоку, возникнув, как всегда, словно ниоткуда и абсолютно бесшумно, точно бесплотная тень, и Доминик Ласса вздрогнул от испуга:
— Я пишу.
— Ты умеешь писать? — удивился Игуана.
— Не умел бы — не писал, — последовал логичный ответ. — Я вел записи в судовом журнале.
— Этим всегда занимается капитан. Капитаны — те умеют писать.
— Капитан предпочитал, чтобы это делал я, поскольку у меня почерк был лучше, чем у него.
— Это судовой журнал?
— Нет. Мой дневник. Я обнаружил его среди вещей, которые норвежец с Себастьяном перетащили на берег. Часть страниц намокла, но его еще можно использовать.
Оберлус протянул руку, взял толстую, увесистую книгу в темном потертом кожаном переплете и, повертев в руках, раскрыл и стал внимательно рассматривать мелкий, каллиграфически безупречный почерк и оставшиеся чистые страницы.
— Я не умею читать, — наконец признался он, возвращая книгу. — Никто так и не захотел меня научить.
Доминик Ласса молча закрыл тяжелый том, убрал его за спину, словно ценное сокровище, которое могли отнять силой, и, превозмогая отвращение, взглянул на человека, сидевшего напротив и погруженного в созерцание моря. Оно, необычайно спокойное, свинцовое, точно зеркальная гладь без единого пятнышка, широко раскинувшись, терялось из виду вдали.
— Да мне и ни к чему умение читать, — изрек Оберлус после долгой паузы. — Ни к чему. Даже если бы я стал самым ученым человеком на свете, моя физиономия все равно осталась бы прежней, и люди продолжали бы от меня шарахаться. — Он посмотрел на француза в упор: — Какой в чтении прок?
— Понять то, что написали другие, — непринужденно ответил француз. — Порой, когда мы испытываем одиночество, грусть или близки к отчаянию, то, что рассказывают другие, может принести нам успокоение. Узнаешь, как они подверглись похожим испытаниям и как их выдержали, и это помогает.
Игуана Оберлус на мгновение задумался и уверенно произнес.
— Это не про меня. Вряд ли кому-то довелось пройти через то, через что прошел я, и у него хватило духу об этом рассказать.
— Откуда такая уверенность? — сказал Доминик. — Никто не может знать этого наверняка, потому что никому не под силу прочитать все книги, какие были написаны.
— Знаю, потому что чувствую… То, что вы заставили меня испытать за все эти годы — целую жизнь, — никто не смог передать никакими словами. — Оберлус скептически покачал головой, достал из кармана трубку и, чтобы ее зажечь, высек кремнем искру. — Меня изо всех сил старались уверить в том, что я, родившись уродом, был настоящим исчадием Ада, и в конце концов меня в этом убедили. Но где же он, мой отец — дьявол? Ни разу не пришел мне на помощь, а всем пакостям, которым он должен был меня научить, я постепенно научился сам, поскольку мне их делали другие… Если я не в состоянии выразить, даже просто говорить о том, что я пережил, как кто-то может об этом написать?