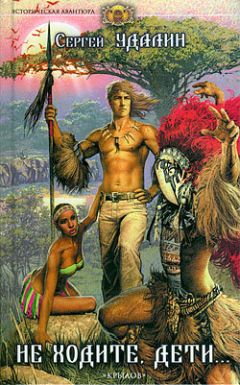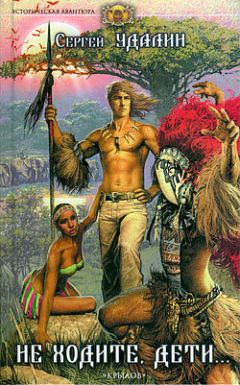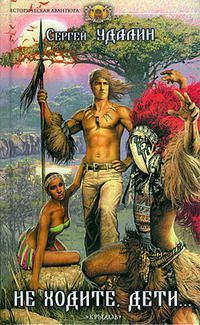Когда до выхода оставалось совсем ничего, вдруг снаружи нам навстречу поднялась зеленая замызганная шляпа, сдвинутая чуть набекрень, а следом — весьма упитанная физиономия с длинными висючими усами. Затем мы увидели большие дула двух пистолетов, а потом и часть голого по пояс торса. Обладатель всего этого глядел на нас из-под шляпы почти ласково. Я уронил весь свой шанцевый инструмент и стал сильно кашлять, чтобы заглушить звуки его падения.
Замолчав на полуслове, мы стояли и смотрели на незнакомца не слишком приветливо. А он ласково глядел на нас, изучая.
— Руки как можно выше, — приказал он красивым драматическим баритоном и указал дулами вверх: дескать, хоть я и ласковый на первый взгляд, но насчет рук говорю вполне серьезно.
На пляже вы сразу узнали бы этого человека. Его нельзя не узнать, и дело вовсе не в количестве разноцветных татуировок, украшавших его от ремня до ушей. Мало ли бывалых людей, у которых тьма татуировок на теле? Тут гвоздь в другом. Эти татуировки были не простыми, а исключительно музыкальными — все, как на подбор.
От плеча до плеча его грудь пересекал малинового цвета нотный стан с дюжиной самых разнообразных скрипичных ключей. Ниже шли диезы, бемоли и бекары. Красивыми латинскими буквами прямо на сердце было начертано: «Фортиссимо», а там, где печень: «Пиано». Целые куплеты известных в народе песен нашли свое место на животе нашего меломана, а профили и автографы популярных менестрелей занимали всю правую сторону груди. А плечи!.. Взглянули бы вы на его плечи, сплошь испещренные названиями групп и команд, новых и старых! Да, незаурядный торс преградил нам выход. Меня разбирало жгучее любопытство, желание хоть одним глазком, лучше правым, взглянуть на его спину: что там?
Немного придя в себя после такой неожиданности, я заметил, что вместо мушкета за плечами Меломана висит гитара. Ну и ну! А позади него ворочался океан.
— Выходите на солнышко! — велел он. — А попугая-то придется ощипать. Давненько мы не ели дичи. Попугай — это дичь или не дичь, Жуткий? — спросил он через плечо.
— Еще какая дичь! — ответили ему жутким голосом.
Роберт было возмутился, но чутье тонкого психолога подсказало ему другую линию поведения.
— Что за дичь вы несете в фа-диез-миноре, юноша? — вальяжно спросил он. — Где ваша продольная флейта? Ведь на ней, помнится, вы играли прошлый год на Шестом континентальном конкурсе в Вене. Где она? Или вы обменяли ее на лоцию Карибского и Испанского морей? Ох, молодежь!
— Какую еще лоцию? — пожал плечами Меломан. А потом спросил через плечо: — Говорящий попугай — это, по-твоему, дичь или не дичь, Жуткий?
— Давай его сюда, поглядим! — рявкнул жуткий голос, повергший нас в дрожь.
Нас с Авантом, но не Роберта. Попугай чувствовал себя превосходно и был явно в ударе: сбивал пылинки с лацканов пиджака, поправлял тесноватый галстук и вообще вел себя достойно. Поэтому Меломан разглядывал не столько нас, сколько попугая. Внимательно разглядывал, с лап до головы. Что и говорить, странная птица…
— Нет, ты все-таки дичь, — наконец решил пират. — С тобой еще не все ясно, но ты дичь. А вот вы кто такие?
Я, недолго думая, брякнул:
— Мы известные артисты из Бисквита и Калькутты. Мы музыканты.
— Вот как! — удивился Меломан. — И ты тоже музыкант? — спросил он Аванта с помощью дула пистолета.
— Естественно, — подтвердил Авант. — Работаю в стиле кантри. — И на всякий случай спел: — Ля-ля-ля!
Попугай одобрительно покосился на новоиспеченных музыкантов и решил возглавить коллектив.
— А я художественный руководитель и главный дирижер мальчишек, — устало молвил он и кивнул на нас по-отечески: дескать, ох уж мне эти мальчишки, хлопот с ними полон рот. — А вообще-то, юноша, вы вполне могли бы быть с нами повежливее. Ведь могли же предложить нам присесть, поскольку мы с дороги, — однако не предложили. Могли угостить чашечкой кофе — а не угостили. Могли, наконец, в непринужденной и ненавязчивой форме рассказать нам, чем живет местная музыкальная интеллигенция, какие у нее нужды и чаяния, как лично вы, юноша, отметили юбилей великого Сибелиуса. А вместо всего этого вы оскорбляете меня, именуя дичью, устраиваете унизительный допрос, держите нас в этом сыром, промозглом погребе. И как мы умудрились заблудиться, возвращаясь с концертов? — растерянно обратился Роберт к нам.
Мы с Авантом стали пожимать плечами: мол, сами в полном недоумении, маэстро, какими ветрами нас сюда занесло.
Роберт продолжал:
— А ведь мы устали, юноша. Мы давали по четыре концерта в день, по четыре! Можете себе представить? Я верю, мой юный друг, что это представить вы себе можете. Ведь и тогда пробиться в финал по продольной флейте было довольно сложно. Чует мое сердце, что не один седой волос появился у вас на голове после того Шестого континентального конкурса в Вене, верно ведь? Помните меня в жюри? Я сидел между Ваном Клиберном и Ван Даммом… А я вас хорошо помню, вы тогда очень нас порадовали.
— Не был я ни на каком конкурсе, — спокойно сказал Меломан и снял шляпу, чтобы утереть пот с лысины. Да-да, он был совершенно и безнадежно лыс. — Вы обознались. Я гитару-то еле в руках держу, какая там флейта!
— Ах-ах! — расстроился Роберт. — А я очень обрадовался, увидев вас целым и невредимым. Так вот, юноша, по четыре выступления в день — и это не считая записей на радио и телевидении, не считая встреч с публикой и пресс-конференций, перерастающих в разговоры по душам. Вы можете, дружище, я по вашим глазам вижу, что вы очень хорошо можете представить, как не-и-мо-вер-но мы валимся с ног от усталости. Очень жаль, что вы не тот самый паренек, который так порадовал нас в Вене. Вы так на него похожи! Постойте, а может, это ваш брат?
— Детдомовский я, — буркнул Меломан. — Родителей-то не помню, а вы — «брат»… Ладно, можете пока опустить руки. — И он спрятал пистолеты за пояс. — Только когда появится Черный Бандюгай, сразу поднимите их снова, будто и не опускали вовсе. Пошли, сейчас разберемся, что вы за музыканты, — веселея прямо на глазах, сказал он, засмеялся и первым стал спускаться по камням, обмахиваясь шляпой. А потом радостно закричал на весь берег: — Ребятушки! Артистов поймал неожиданно для себя самого! Сейчас, сейчас они дадут концерт в двух отделениях.
А во всю спину у него была одна-единственная пороховая татуировка: «Сцена — моя судьба!»
Выбравшись из подземелья, мы зажмурились от яркого света. Внизу лениво и могуче ворочался океан, и, когда набегала особо шальная волна, брызги летели высоко-высоко и долетали до нас. Я вдруг подумал, что если бы волны били в остров не со всех сторон, а, скажем, с трех, то Рикошет пополз бы отсюда в ту, четвертую сторону. И полз до тех пор, пока или не провалился бы в глубокую впадину, или не прибился бы к другой суше. Не так ли исчезла Гондвана?[1]