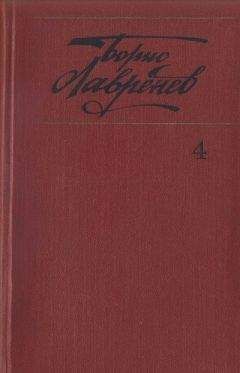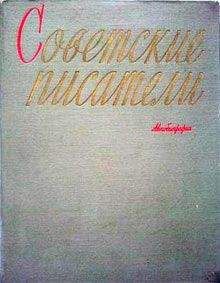как будущего монарха. Европа привыкла видеть его в коротких тирольских штанишках и шляпе с петушьим пером, с тремя убитыми перепелками у ног. Сошел со сцены мелкий помещик, любивший выпить и закусить, потрепать за подбородок румяных пейзанок на стрелковом празднике в имении. Скорбеть о нем не приходилось.
И хотя Вена официально надела траур, но уже объявлена была новая оперетта Иоганна Штрауса, и огненные рекламы нового пива празднично горели над Пратером.
У мертвеца был только один друг — enfant terrible [9]Европы, буян и задира, лихой корпорант Вильгельм Гогенцоллерн, но и он, ограничившись сочувственной телеграммой, хранил пока загадочное молчание, дыбя победоносные усы.
Обывательская Европа не имела особых причин беспокоиться. Она еще не знала, что тишина, наступившая за смертью эрцгерцога, — тишина предгрозья, что генеральные штабы, разработавшие варианты на тысяча девятьсот пятнадцатый, в горячке бессонницы наспех перекраивают военные планы и дипломаты Европы в тишине хладнокровно готовят гибельный взрыв обывательского благополучия.
И все же тревога нарастала. По ночам созвездия вспыхивали злыми и тревожными узорами, и Дунай, против сербской крепости Землин, подергивался судорожной свинцовой рябью.
И думы Глеба, вопреки его желанию, упрямо сворачивали на военную тропу. Это раздражало. Думать о войне не хотелось. Лучше было думать о Мирре, о простой, безмятежной, безоблачной жизни, как солнцем, пронизанной покоем.
— Чертов эрцгерцог! — вслух ругнулся Глеб. — Не мог, сволочь, тихонько сидеть в Вене и гулять по Шенбруннскому парку! Нет — понес дьявол визитировать к верноподданным боснякам! Его грохнули, ему теперь беды мало, а я отдувайся!
Он с силой ткнул носком туфли диванную подушку, срывая на ней злость. Подушка свалилась на пол. Глеб поднялся подобрать ее и, подымая, услыхал с улицы врывающийся в раскрытое окно голос:
— Глеб… Ты дома?
Глеб подошел к окну и навалился животом на подоконник. Внизу, ярко-желтый от косого закатного блеска, стоял худенький, в голубой косоворотке и примятой студенческой фуражке, задирая острый подбородок к окну.
— Шурка?.. Ты откуда узнал, что я приехал?
Студент растянул смешком тонкогубый рот.
— Хо-хо… Лицезрел не однажды ваше высокоблагородие в потрясающем окружении высшего дамского бомонда.
— Вот дурень! Почему же не подошел?
— А ну вас! Я в аристократическом кругу — как мерин на колокольне.
— Ну, заходи же.
Глеб отвалился от подоконника и опять раскинулся на диване.
Неожиданный гость — Шурка, Александр Фоменко, давний приятель Глеба по гимназии. Неразлучно они сидели на одной парте, деля мысли, завтраки и шпаргалки. Это было настоящее, крепкое школьное побратимство. Дружба пустила корни с первых гимназических дней, когда Глеб взял под защиту болезненного недоростка, на котором задиры пробовали свои кулаки, как на ярмарочном силомере. Но несколько молниеносно расшибленных носов убедили их владельцев, что лучше оставить Фоменко в покое. Глеб был признанным силачом и, кроме того, сыном директора.
Шурка оказался для Глеба прекрасным другом. Характер у него был тихий, ровный, но настойчивый. Постепенно, исподволь он овладел Глебом и от кулачных подвигов увлек на чтение, на споры, на всяческие затеи мысленного порядка.
Веселый здоровяк Глеб безропотно помогал Шурке собирать гербарии, препарировать лягушат и выращивать тритонов. Чулан алябьевской квартиры превратился в химическую лабораторию, откуда ежедневно гремели взрывы и неслась приводившая весь дом в неистовство вонь.
Изредка на ясного и тихого Шурку вдруг налетало нечто темное и тяжелое, болезненные неврастенические вспышки. Во время них он был хмур, ядовито кривил узкие, делавшиеся неживыми губы, одичало молчал. Его отец, подпольный ходатай по делам, пьяница, в припадке алкогольного бреда, на глазах пятилетнего сына, зарезал бритвой жену и, отрезвев, повесился сам. Видимо, страшная память об этом дне и выбивала иногда Фоменко из привычной тихой колеи.
Жил Шурка у тетки, в сырой полуподвальной квартире, существовал на стипендию, с третьего класса зарабатывал уроками, хотя сам учился трудно.
Ничем не омрачавшаяся дружба едва не порвалась, когда, перейдя в шестой класс, Глеб, очарованный двухмесячным плаваньем по Черному морю на рыбачьей шхуне, задумал уйти из гимназии в морской корпус.
Шурка равнодушно выслушал восторженно-сбивчивую речь Глеба о чудесах морской службы, пожал плечами и очень обидно сказал:
— 3-забавно… Рос, учился — и вырос дурак.
Оскорбленный в лучших чувствах, Глеб ударился в амбицию и потребовал объяснения.
— Чего ж объяснять? — скучно отозвался Шурка. — И так ясно, как два апельсина. Вместо того чтобы стать полезным человеком, ты хочешь играть в оловянные болванчики, стать муштрованным бревном. Твое дело. Значит, теперь мы врозь.
И, не вступая в дальнейшие споры, ушел и больше не появлялся. Даже не пришел проводить Глеба в день отъезда. Но, в новом увлечении, Глеб этого почти не заметил.
Правда, на следующий год по приезде в отпуск Глеба, уже начиненного корпусным шиком, Шурка встретил его хотя и насмешливо, но дружелюбно. Внешне отношения восстановились, но основное теплое звено выпало из них навсегда. Шурка охотно встречался с Глебом, но ничего не хотел слышать о корпусе. Глеб относился к этому, как к упрямому, но терпимому чудачеству.
Теперешний приход Шурки был кстати. Шурка обладал резким, ядовитым языком, за словом в карман не лазил. Он был отличным собеседником на сегодня, когда у Глеба тоже разливалась желчь.
Шурка вошел. Глеб, не вставая, пожал руку друга и подвинулся:
— Садись, — пригласил он, шлепнув ладонью по дивану.
— Ну нет… И так жарища, хоть удавись. Да еще на мягком сидеть. Я лучше на сквознячке.
И уселся на подоконник, аккуратно подтянув брюки. Почти хирургическая, педантичная опрятность всегда отличала Шурку, и, оглядывая приятеля, Глеб заметил, что старенькая сатиновая косоворотка отглажена до блеска и так же тщательно проглажены залатанные на коленках брюки.
Фоменко не торопился разговаривать. Вынул из кармана коробку папирос «Salve», постучал мундштучком о картон, вытряхивая крошки табаку, чиркнул спичку и, только дважды выпустив дым, спросил как бы невзначай:
— Надолго?
Глеб зевнул.
— На два месячишка. Перед производством гуляю. Хорошо дома, Шурка. Малина со сливками.
Фоменко слегка подался вперед на подоконнике.
— Как бы малина оскомину не набила!
Глеб повернул голову. Шуркин тон показался странным.
— Ты что так скептически настроен?