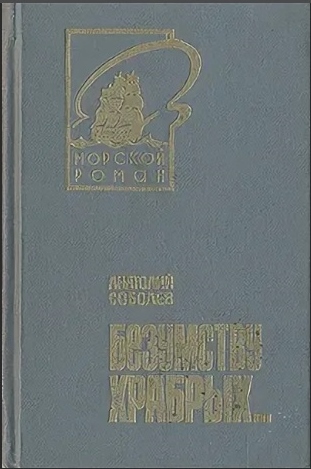которого было широко известно во флоте и который оказался личным другом Макухи. Суровые, молчаливые, шли они за гробом. Падал снег на непокрытые головы, и казалось, люди седеют на глазах.
Макуха лежал в гробу в новом кителе, гладко выбритый. Федору, привыкшему видеть мичмана в старом кителе и со щетиной на подбородке, казалось, что хоронят кого-то незнакомого. На красных подушечках несли ордена и медали мичмана, о которых Федор и не подозревал. Наград было много. Даже иностранные: английская медаль "За боевые заслуги" и какой-то орден, большой, блестящий и плоский.
Только на похоронах Федор понял: у Макухи была большая, наполненная значительными событиями жизнь, о которой молчаливо говорили ордена и все пришедшие на похороны люди.
Спустя несколько дней после гибели Макухи на судоремонтный завод привели группу немецких военнопленных.
два автоматчика покуривали цигарки, поглядывали на работающих немцев, изредка беззлобно покрикивали на них.
В грязно-зеленых шинелях со свежими метками от споротых нашивок и петлиц, немцы усердно таскали шпалы, рельсы: меняли испорченные бомбежкой пути для слиповой тележки.
Это были тирольцы, фашистские егеря, "герои Нарвика и Крита" из корпуса "Норвегия" генерала Дитла. Они прошли специальную подготовку ведения войны в горах. Теперь эти хваленые "герои" без погон и знаков различия были просто серой покорной толпой.
Федор впервые видел живых фрицев и с любопытством и неприязнью наблюдал за ними. Особенно его раздражал рыжий немец с оставшимся на рукаве жестяным эдельвейсом — говорили, любимым цветком Гитлера.
"Ишь, гад! Оставил цветочек. Хоть этим доказать свою преданность фюреру. Вот такой рыжий сидел и в "юнкерсе", расстреливал нас! Убил Макуху. Такой вот убил Васю! Такой вот..."
Слепящее чувство ненависти захлестнуло Федора!
И надо же было так случиться, что, проходя мимо, этот немец задел Федора.
— Ты чего, гад? — сквозь зубы процедил Федор, чувствуя, что сейчас сорвется.
Немец что-то залопотал.
— Прощенья просит фриц, — язвительно сказал Женька. — Вежливый. Дать ему по сопатке, сволочи!
Минуту назад Федору и в голову не приходила мысль о таком способе мщения за Васю, за Макуху, но, услышав слова Женьки, почувствовал, как всколыхнулось в нем что-то. То ли отражение этого чувства появилось у него на лице, то ли еще как, но немец понял состояние Федора и, остерегаясь, поднял руки. Федор неожиданно для себя, испытывая мстительно-радостное чувство, ударил пленного в лицо.
— Вас ист дас? — воскликнул немец.
— Эй-ей! — крикнули враз автоматчики. — Ты чего, моряк? Так не положено!..
Быстро подошел лейтенант Свиридов. Жестко сказал:
— Десять суток строго ареста!
Федор, недоумевая, смотрел на лейтенанта.
— Повторите, матрос Черданцев! — зазвенел голос Свиридова.
— Есть десять суток строгого ареста, — машинально повторил Федор.
На четвертый день ареста Федора начальником караула заступил лейтенант Свиридов.
— Ну как, герой, — спросил Свиридов, входя в камеру, познаешь мир?
Федор промолчал.
— Подумал?
— Чего думать? Мало я ему дал.
— Лежачего бить — геройства мало.
— А что, мне с ним целоваться? — вызывающе спросил Федор. — Он, может, моего брата убил!
— Может быть. Может, и моего отца тоже. — Лейтенант сел на голые нары, вытащил пачку папирос, но раздумал, положил обратно в карман. — Арестованным курить нельзя, и я не буду, чтобы на равных быть.
"Равные! — внутренне усмехнулся Федор. — Посадил, да еще о равенстве толкует".
Свиридов оглядел голые стены камеры и сказал:
— Место не особенно подходящее для беседы, но все же как раз для этого я и пришел. Парень ты образованный, начитанный, а вот есть у тебя пробел, герой.
Вытащил пачку папирос и снов сунул ее в карман.
Федор поморщился: "Чего он "героем" понужает?"
— Ну, скажи начистоту, как думаешь: прав ты или нет?
— Прав.
Лейтенант внимательно посмотрел на Федора, и, хотя ничего не сказал, но Федор вдруг почувствовал потребность оправдаться.
— Он, может, Васю убил, а я его раз по морде смазал и уже не прав? Всез их надо!..
— Всех?
— Всех!
— Так уж и всех?
— А что?
— Ну, а Тельмана? Вильгельма Пика, других немецких коммунистов?
— При чем тут они?
— Тоже немцы. Ты же говоришь: всех!
— Они — антифашисты, а эти — фашисты! — выкрикнул Федор.
— Не все.
— А может, этот рыжий как раз фашист!
— Может.
— Так в чем же дело? — опешил Федор. — В чем же я не прав?
— В том, что ударил пленного.
— Да не все ли равно: пленный или не пленный! Фашист есть фашист!
— Нет, не все равно. пленный и солдат — разница огромная. Особенно у немцев. Ты ненавидишь их за то, что они убили твоего брата. Это твои личные счеты с ними. А ты подумал, почему твой брат совершил подвиг? Подумал, что он совершил его не ради себя — в этом случае у него бы не получилось, — а ради своих товарищей, ради всех нас, во имя своей родины? Понимаешь?
Чем-то напомнил лейтенант в этот момент Федору отца. То ли словом "понимаешь", что любил говорить отец, то ли непоколебимой верой в то, что говорил.
— Ты ударил немца ради своего личного мщения за брата. Ты о другом не думал.
— Думал. О Макухе думал, — запротестовал Федор.
— О Макухе, может быть. Но так или иначе, ты совершил поступок, недостойный советского моряка. Ты унизил себя. Парень ты неглупый и должен понять, что уронил ты высокую честь Советского Союза, именно всего Советского Союза, а не только свою личную. Не удивляйся! Если хочешь знать, этим ударом ты уподобился самому немцу, ты поступил так, как поступают они. Понимаешь, война была содержанием жизни немцев из поколения в поколение. Злоба, душевная опустошенность, садизм поощрялись. Немецкий солдат привык видеть мир в каске и с оружием в руках, привык верить, что он господин, а другие народы — неполноценны, рабы, привык верить в силу автомата. А нам надо, чтобы он поверил в человечность человека. Надо, чтобы пленный понял, что жил он неправильно, что был орудием в руках