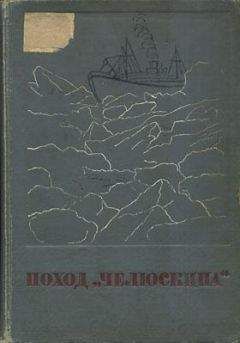Жилой дом в Уэллене был расположен очень далеко от радиостанции, и она предпочитала поэтому спать в самой радиостанции на тощем матрасике, втиснувшись между передатчиком и печкой.
Однажды Шрадер вызвала меня вне расписания:
«Кренкель, ты давал сейчас SOS?»
Я говорю:
«Нет, а в чем дело?» [373]
«Сейчас какой-то американец давал твоими позывными сигналами SOS и знак вопроса».
Очевидно захотелось ему шикнуть в эфире — под тем или иным предлогом дать сигнал бедствия хотя бы со знаком вопроса. Люда вызвала этого американца. Он ответил. Она заставила его ждать и снова запросила меня. Я сказал ей:
«В лагере попрежнему все спокойно. Никаких сигналов бедствия никто не давал. Передайте услужливому паникеру пару теплых слов…»
Москву все время очень интересовало состояние нашей радиостанции: надолго ли хватит энергии аккумуляторов? Я неизменно отвечал:
«На 10 дней».
Это был гарантийный срок. Нам удавалось не вторгаться в его пределы, и в течение двух месяцев я передавал один и тот же ответ:
«Хватит на 10 дней».
Почти каждый день получали 200–300 слов информации ТАСС о делах Союза, а также о важнейших политических событиях во [374] всем мире. Мы были в курсе событий в Испании, в Австрии. Знали, что на Днепре открылась навигация, что такой-то район закончил сверхранний сев. Знали даже о том, что Каланчевская площадь вся разрыта, так как туда опускаются какие-то особые сооружения для метро.
Эти сводки Шмидт ежедневно зачитывал в бараке, куда набивалось, как в трамвайный вагон, все население лагеря. Сгорбившись над моими каракулями у единственного закопченного фонаря, на обрубке бревна сидел Шмидт с грязным, захватанным радиожурналом и читал информацию. Вокруг него, сидя на корточках, лежа на сбитых матрацах, соблюдая полнейшую тишину, располагались обитатели лагеря. Неизменный восторг вызывали сообщения о мероприятиях правительства для нашего спасения. Особое впечатление, колоссальную зарядку бодрости дала нам известная телеграмма Сталина, Молотова, Ворошилова, Куйбышева, Орджоникидзе и Кагановича.
Прилетели!
Радиоаппаратура находилась в плохих условиях. Ночью температура падала ниже нуля; утром, когда горел камелек, аппаратура «потела» и покрывалась копотью. Это были самые обыкновенные приборы; при их конструировании конечно не были учтены специфические лагерные условия, и аппаратура иногда пыталась бастовать.
Приходилось разбирать приемник, осторожненько его вытирать и сушить около камелька. В такие минуты опасно было со мной разговаривать, потому что я походил на бочку с порохом. Во время этой работы я бурчал под нос не совсем цензурные слова, относящиеся к аппаратуре. Шмидт, сознавая опасность остаться без связи, сидел молча и ни разу ни единым словом не вмешался в мои монологи. За эту чуткость я еще больше люблю и уважаю Шмидта.
Наконец наступили решающие дни. Люда передала нам, что в лагерь собираются лететь какие-то американские самолеты. Мы догадались, что это самолеты, купленные нашим правительством. Узнали, что их будут пилотировать наши летчики — Леваневский и Слепнев. Были рады.
Однажды Шрадер сообщила, что над Уэлленом, несмотря на плохую погоду, пронесся какой-то самолет и что скорость его «бешеная». Несколько часов мы были в полном неведении, что это за [375] самолет. Как раз в этот вечер в бараке происходило занятие по диалектическому материализму. В радиопалатке я сидел один.
Вызывает меня Ванкарем. Сообщает:
«Зови к аппарату Шмидта. С ним хочет говорить Ушаков».
Ушаков?!
Попросил Ванкарем подождать, передал привет Ушакову, а сам побежал в барак звать Отто Юльевича. Занятия были прерваны. Впереди Шмидта, прыгая через трещины, я побежал обратно в радиопалатку и вызвал Ванкарем еще до того, как пришел Шмидт. Ушаков передал мне привет и сообщение о том, что дома все благополучно. Затем состоялись длительные переговоры Шмидта [376] с Ушаковым, который осведомил нас о печальной аварии с самолетом Леваневского, на котором он летел в Ванкарем.
Разговор велся о том, чтобы подготовить собачьи упряжки на случай, если самолетами всех вывезти не удастся.
Так мы дожили до 7 апреля, когда Ванкарем сообщил, что в лагерь вылетают сразу три самолета: Слепнева, Молокова и Каманина.
Слепнев указал:
«Буду в лагере через 36 минут».
Я удивился такой точности и посмотрел на часы… Через 37 минут на горизонте показался самолет Слепнева. С большой скоростью он приближался к лагерю, сделал крутой вираж и потом почему-то долго кружился над аэродромом. В лагере недоумевали.
При посадке самолетов на сигнальной вышке обыкновенно находился штурман Марков. Так как мне нужно было знать о посадке, чтобы сообщить на берег, мы условились: троекратный взмах шапкой над головой означает благополучную посадку. Но сколько я ни глядел, Марков неподвижно стоял на вышке, никаких знаков не подавал, а потом стал спускаться по лестнице на лед. Что-то неладно. Вскоре пришли с аэродрома: самолет Слепнева, имевший чересчур большую посадочную скорость, проскочил весь аэродром и повредился в торосах.
Минут через двадцать после прибытия Слепнева на горизонте показались еще два самолета: Молокова и Каманина. В обоих случаях Марков три раза радостно махнул шапкой.
Я немедленно передал в Ванкарем сообщение об успешной посадке.
Мачту! Спасайте мачту!
В ночь с 8 на 9 апреля, когда произошло сжатие, значительно более сильное, чем то, которое погубило «Челюскина», нам пришлось вынести из палатки все, кроме радиоаппаратуры. Вещи были вынесены для того, чтобы не спотыкаться о всякие предметы, если бы пришлось выносить и радиоаппаратуру.
Вахтенный разбудил весь лагерь. Со сна я не понял, в чем дело. Полагалось просыпаться уже при дневном свете, а тут меня разбудили в кромешной тьме. Долго бормотал спросонья будившему меня Ушакову, что вахтенный должно быть ошибся, работать еще [377] рано и я хочу спать. Но слово «сжатие» быстро привело меня в себя. Какой-то наивный человек спросил меня:
— Дашь ли ты сейчас сигнал бедствия?
А зачем мне было давать сигнал бедствия, когда он вообще ни разу не давался экспедицией Шмидта?! Одевшись, я вышел из палатки. Ледяной вал приблизился к радиомачте, и пришлось срочно переносить ее в другое место.
В шесть утра, по расписанию, стали работать с Ванкаремом. Ни минуты опоздания! Ведь каждое промедление волновало товарищей, находившихся на берегу.
9 апреля сжатие повторилось с той же силой. Был сильный ветер: семь, а временами восемь баллов. Пурга. Сквозь метущий снег угадывалось, что наверху солнце. В Ванкареме в это время была ясная, тихая погода, и оттуда сообщили нам: