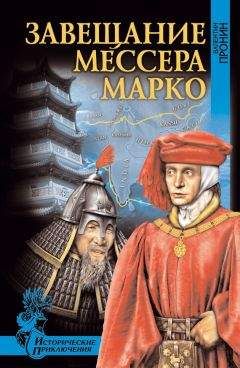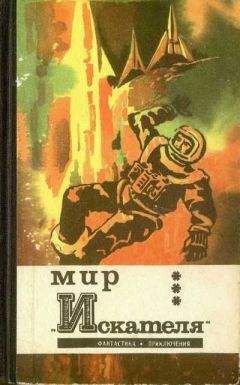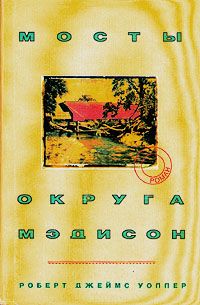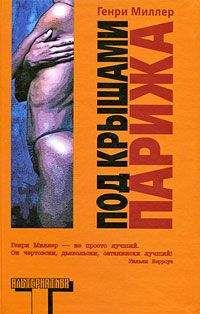Чэн поклонился ему и сказал:
– Добрый день, господин Ван. Если позволите, я посижу в вашем заведении – мне нужно встретить здесь кое-кого до ночных барабанов.
Трактирщик хлопнул юношу по плечу мускулистой рукой:
– Проходи, парень. В заведении Вана Плешивого ты можешь спокойно обсудить свои дела с кем угодно. И хотя нам запрещается петь под перебор звонких струн, но ты, Чэн-весельчак, споешь сегодня и повеселишь моих гостей!
С наступлением сумерек трактир заполнялся посетителями: грузчиками, матросами с торговых джонок, ремесленниками, приказчиками и их подругами из предместья.
Трактирный слуга Цзан жарил на решетке утку и переворачивал на противне пампушки «мянь-тоу». Хозяин разливал подогретое рисовое вино по маленьким чашечкам и снова подвешивал медный кувшин над очагом. Вино, копченую свинину, бобовый сыр и пампушки разносила на столики миловидная девушка по имени Хун-тао. Многие из посетителей трактира не прочь были бы укусить ее румяную щеку, похожую на сочный и красный персик, но опасались могучих кулаков Вана Плешивого. Поговаривали, что хорошенькая Хун-тао приходится ему племянницей, и если потихоньку положить перед Ваном не бумажные деньги, а несколько старых серебряных монет, то трактирщик закроет глаза на то, где она проведет ночь.
Чэн достал из-под полы халата разукрашенный барабанчик, ударил в него и закричал:
– Достопочтенные господа! Смейтесь, ешьте и пейте пока! И слушайте Чэна-весельчака!
Подвыпившие простолюдины, шумя и толкаясь локтями, собрались вокруг юноши. Он посмотрел на их рваную одежду, шапчонки из мятой рогожи, веревочную и плетенную из травы обувь, на сутулые спины, согбенные бесконечным, тяжелым трудом, на обветренные морщинистые лица, гнойные нарывы и лишаи, на слезящиеся глаза, глядевшие на него с веселым ожиданием, на добродушно усмехавшиеся рты – беззубые, желтозубые, гнилозубые. Он посмотрел на этих старых и молодых китайцев, и в его сердце раскаленной иглой вошла острая жалость.
Он подмигнул трактирному слуге Цзану. Оглянувшись на хозяина, Цзан подал юноше ветхую, запыленную лютню-пипа.
Чэн щипнул струны и запел любимую песню на мотив «Прогулка у моста Дуаньцяо»:
Весною деньги я не берегу,
Сижу хмельной на берегу.
Гуляют в роще девы красоты,
В прическах их дрожат цветы,
И завтра я, еще не отрезвев,
Приду искать на тропках шпильки дев.
Слушатели разразились криками одобрения. Чэн присел у ног смутившейся Хун-тао и затянул высоким тоном, нежно и шутливо:
Волосы-тучки, что легкие крылья цикад.
Бабочки-брови над долом весенним парят.
Алые губки, что сочные вишни плоды.
Белые зубки, что ровные яшмы ряды.
Крохотной ножки почти незаметен шажок.
Песнею иволги тонко звенит голосок…
Девушка закрыла лицо руками. Раздался взрыв хохота, женщины в восторге прижимали пальцы к вискам, мужчины протягивали певцу чашечки с вином:
– Эй, Чэн-весельчак! Откуда ты явился? И где взял такой голос?
Чэн шутливо подпрыгнул и подбоченился:
Я ловкий парень! Проворный малый!
Я тот, кто
Пустит в дело жилку блошки,
С ног у цапли мясо срежет,
Счистит лак с боба блестящий,
Позолоту – с лика Будды,
На плевках раздует лампу,
Прелой хвоей печь растопит…
Ван Плешивый послал Цзана на улицу поглядеть, нет ли поблизости стражников – очень уж шумно сегодня в трактире. А Чэн, наклонившись над пипа и слегка раскачиваясь, пел о счастливой деревне на мотив «Линьцзянский староста»:
Смех у всех в селенье тут,
Хижины простые,
В лето сеют, в осень жнут;
А снега все заметут –
Дома спят хмельные.
Тополиный пух весны
Плавает в тиши.
Все здесь радости полны,
Им смешны и не нужны
Ни чины, ни барыши.
Люди вытирали глаза, вздыхали и шептали, опустив головы:
– Никогда нам не видать такой жизни – простой и справедливой. Так весь свой век и будем гнуть спину, так и сдохнем, надрываясь и голодая.
Окончив петь, Чэн скромно поклонился и, осыпаемый похвалами, пробрался в темный угол.
За оконцем трактира стемнело. Ван Плешивый зажег масляные лампы. Гудели пьяные голоса: кто-то ссорился, кто-то смеялся, кто-то жаловался. К Чэну подошел приземистый человек в скромной одежде.
– Господин Вэй? – удивился юноша.
– Здравствуй, Чэн. Скоро придут остальные. Будь осторожен.
Через некоторое время рядом оказались приказчик с рябоватым лицом, тощий старик в черном шерстяном халате и высокий крестьянин средних лет с огромными жилистыми кистями рук, с перебитым носом и мрачными выпуклыми глазами.
Они попросили хозяина подать им вина и бросили на столик игральные кости, хотя закон великого хана строго запрещал играть в кости, в шашки «вэйци» или другие игры подобного рода.
Вэй поздоровался с ними и, указав на Чэна, сказал:
– Он от святого отца Гао…
– Ну что ж, собрался совет начальников низших сословий, – усмехнулся старик. – Я – старшина гадальщиков, Вэй – старшина рыбаков, Бао – предводитель людей… свободного ремесла (Чэн сообразил, что речь идет о ворах) и, наконец, силач Ши Чун.
– Я – кинжал мщения, карающее копье народного гнева! – прохрипел крестьянин с перебитым носом.
– Ши Чун – князь «травяных разбойников», – пояснил Вэй. – За ним отряды вооруженных удальцов, готовых пойти к воротам, ворваться в город и поддержать восставших горожан и солдат.
Ши Чун кивнул головой и добавил:
– Жаль только, у моих ребят не хватает оружия. У большинства топоры, дубины да самодельные копья…
– Ничего, – успокоил рябой Бао, – как только начнется свалка, я со своими помощниками открою ханские склады оружия, и все «травяные» получат луки с колчанами, хорошие щиты и мечи.
Вэй посмотрел на старика гадальщика и сказал:
– Ваши люди, почтенный Синь-чжи, должны предупредить тех горожан, которые готовятся к возмущению. Рыбаки и жители джонок перевезут через реку отряды Ши Чуна и, как условлено, подожгут костры. В ночной тьме они будут видны за десятки и сотни ли в городах и селениях, подобно бесчисленным небесным звездам, и вызовут движение народа, подобно горсти раскаленных углей, брошенных в муравейник.