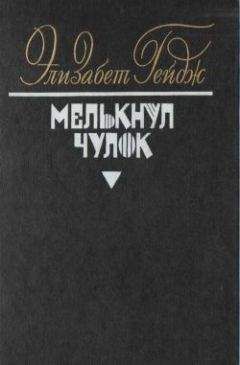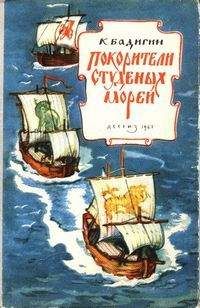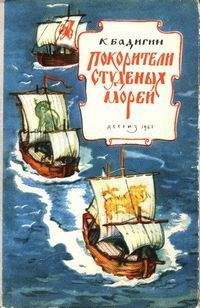«Видит бог, — думал он, — я всегда был хорошим католиком и никогда не жалел своих сил на благо христианства. План Ладоги будет в моих руках. Если бы мне удалось захватить эту крепость — о! — как расширились бы наши владения к северо–востоку, сколько язычников было бы обращено в лоно святой церкви. Сам святой папа…»
Командору казалось, что он уже держит в руках папскую буллу.
— Завтра в поход! — раздельно и громко сказал он. — Я сам поведу своих воинов на Ладогу.
Его рука потянулась к небольшому молоточку, лежавшему на столе. Резкие металлические звуки раздались в замке.
Глава XI. В СТАРОЙ КРЕПОСТИ
Посадник ладожский, боярин Никита Афанасьевич Губарев, хорошо знал Амосова, и не только знал, но и с давних пор состоял не без выгоды дольщиком старого купца во многих его промысловых походах. И в этом году две дружины боярина били зверя на амосовских лодьях в Студеном море.
Труфан Федорович был вынужден остановиться в доме гостеприимного хозяина. Когда переправлялись через волховские пороги, один из груженых карбасов застрял на камнях, и его залило водой. Спасая судно, старый мореход работал наравне со всеми, простыл в холодной воде и занемог. Почти без сознания дружинники привезли его в Ладогу.
Только через десять дней он поднялся с постели, а сегодня Никита Губарев пригласил его к себе на трапезу. Назначив отъезд на завтра, Амосов почувствовал облегчение и с радостью согласился на приглашение посадника.
В низкой сводчатой горнице воеводы было душно: маленькие слюдяные оконца в свинцовой оправе не пропускали свежего воздуха; в углу перед темными образами смрадно коптила лампадка. Но старые знакомцы не обращали внимания ни на духоту, ни на смрад. Отобедав и славно хлебнув из большого глиняного кувшина заморского вина, они вели задушевную беседу.
Друзья сидели на широкой лавке, распоясанные, близко склонившись друг к другу.
Теребя поседевшую реденькую бородку, тучный посадник внимательно слушал рассказ купца о последних событиях в Новгороде.
— Так, говоришь, сменили посадника–то… — задумчиво произнес боярин Никита, ставя золоченый кубок на стол. От движения живот его заколыхался. — Силен умом был, степенной, а вишь ты… Скажи, Труфан Федорович, думку свою о московском князе, — перешел на другое боярин. — Пригоже ли Великому Новгороду к нему на поклон идти али нет? У нас тут всякое говорят. А ты как мыслишь?
Губарев говорил медленно, словно нехотя, но старый мореход почувствовал, как он, ожидая ответа, затаил дыхание.
— Я так мыслю, — Амосов усмехнулся: — день встречать, боярин, надо становясь лицом к восходящему солнцу, а не к вечернему закату.
— Правильно говоришь! — Губарев вздохнул, прикрыв свои слегка выпученные глаза.
Он хотел сказать еще что–то, но звонкие, частые удары «всполошного» колокола оборвали мысль, заставили его насторожиться.
— Бежим наверх, на прясла,[37] Труфан Федорович. — Боярин Никита решительно поднялся и, как сидел, без шапки, накинув только на плечи суконный опашень, стремительно кинулся во двор.
Амосов с трудом поспевал за тучным боярином, не по летам ретиво взбиравшимся по каменной лестнице Стрелецкой башни.
С высоты восьми сажен Волхов был виден как на ладони.
Внизу, у самых стен, на черной ленте реки быстро двигался острогрудый карбас. Дружинники бешено работали веслами, вода бурлила под носовым коргом.[38] Под растекавшейся узорча той пеной Волхов казался коричневым, словно навозная жижа На корме во весь рост стоял человек. Он размахивал желтым полотнищем и зычно вопил:
— На помогу, братцы, свей одолевают, на помогу!
Губарев с трудом просунул свое большое тело в бойницу и, держась одной рукой за железный четырехгранный крюк, повис над рекой. Он с неудовольствием отметил несколько молодых березок, успевших пустить корни в расщелины крепости.
— Эй, молодец! — воспользовавшись мгновением тишины, крикнул воевода.
Человек на карбасе поднял красное от натуги лицо.
— Ладно тебе людей пугать, — спокойно сказал Губарев. — Не дюже страшны свей–то. От кого послан? — строго добавил он.
Держаться на одной руке было тяжело, и воевода втиснулся в узкий промежуток между каменными зубцами, плотно заполнив собой бойницу.
Узнав посадника, гребцы стали табанить,[39] придерживая карбас ближе к мыску.
— Соцкий Данила Аристархов к тебе, боярин, за помочью погнал. Свей–то на многих шняках…[40]
— А ты кто такой?
— Кормщик морской стражи Василий Кыркалов.
— Ратного дела не смыслишь! — грозно продолжал боярин. — Ко мне послан, мне и сказывай, а не всему посаду. Греби к Воротной башне, да одним духом чтоб у меня был!
На карбасе дружно взмахнули веслами. Суденышко стремительно понеслось вперед, огибая Стрелочный мыс, разделявший Волхов и реку Ладожку.
Никита Губарев выбрался из узкой бойницы на дубовый пол башни и увидел вооруженных сотников и дружинников.
— Едва нашли тебя, боярин, все городище обегали, как в воду сгинул!.. — отдуваясь, забасил старший из воинов. — Слыхать, свей–то вновь мирную ряду порушили.
— Пойдемте, други, послушаем, что гонец скажет. А ты, Труфан Федорович, — обратился он к купцу, — не обессудь, повремени… ратные дела надо решать.
Он направился к выходу, но у лестницы обернулся.
— Дозоры удвоить, глазами, не задом, дозорным смотреть. Не дай бог, ежели что! Слышишь, Захарий?! — Воевода грозно насупился и погрозил пухлым кулаком.
— Слышу, боярин, не будет порухи. Жить в дозоре — не бывать в позоре! — весело отозвался один из сотников.
— Ну, то–то же. — И большое тело воеводы скрылось в пролете лестницы.
Труфан Федорович частенько за полсотни лет походов к Студеному морю бывал в Ладоге, но на Стрелецкой башне стоял впервые.
Он с невольным восхищением рассматривал замечательное творение человеческих рук — каменную твердыню, грозу шведов, «оплечье» Великого Новгорода.
Всех, кто впервые знакомился с городищем, поражала толщина крепостных стен. Нижняя часть стены Стрелецкой башни, на которой стоял Амосов, была толщиной четыре сажени; второй ряд бойниц располагался в стенах, немногим тоньше — трехсаженных; даже над верхним рядом бойниц толщина каменной кладки была две сажени, так же как и толщина башенных зубцов.
Кроме Стрелецкой, в городище насчитывалось еще четыре башни: Воротная, Раскатная, Климентовская и Тайничная.
Соединяясь трехсаженными стенами, башни составляли крепость, имевшую вид огромного утюга, направленного острым концом на север.