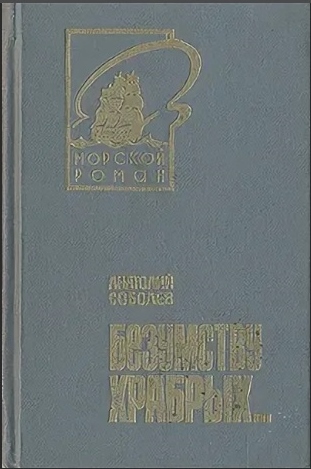отпустила. Приятная теплота разлилась по телу, обволакивала, укачивала. Полежать, отдохнуть, забыться... Поплыл подволок.
Резкие удары загудели в камере. Это снаружи били чем-то металлическим по палубе.
— Не спать! Не спать! — приказывал лейтенант по телефону.
"Да, спать нельзя. При "кессонке" можно не проснуться. Спать нельзя". Федор ущипнул себя, чтобы стряхнуть властную, тяжелую дремоту.
"Нельзя! Нельзя! А как Женька?"
— Жень! Жень!
Молчит. Крупная рука, на которой вытатуированы красивый якорь и водолазный шлем, бессильно свесилась с кушетки.
Федор затряс эту руку.
— Проснись! Нельзя спать! Проснись!
— Бабкин, не спать! — гремел в камере голос Свиридова.
— Нельзя! Нельзя спать! — будил Федор.
— Опять?.. Пошел ты!.. — очнулся Женька.
— Не спи! Не надо! Не спи, Женя!
Но Женька засыпал.
И снова его тряс Федор.
И снова кулаки: Женька отбивался.
— Отстань, сволочь!
"Ах, вот ты как? Ну, черт с тобой, спи! Подыхай! Все лицо разбил, гад!" Со злобой взглянул на мертвенно-бледного Женьку, на его конвульсивно дергающиеся губы, и жаром опалила мысль: "Помереть может. Разбудить!"
И Федор снова ожесточенно тряс Бабкина.
"Пусть дерется, черт с ним, только бы не спал. Не дам спать! Пусть убьет — не дам спать! Не дам!!!"
Они пробыли в камере сутки.
После того как побывал Федор в могиле под кораблем, просыпался он по ночам в холодном поту и с ужасом восстанавливал все пережитое. Чувствовал, что надломлен страхом.
С неменьшим ужасом разглядывал в зеркало свои седые волосы. Семнадцать лет, а смоляные кудри стали серебристо-пепельными и совершенно белая прядь упрямо падала на лоб.
Подолгу глядел Федор из окна госпиталя, куда попали они с Женькой после камеры.
Рябенькое небо, затянутое плесенью облаков, бессильная фольга залива, плешивые, скучные сопки.
Где-то там, далеко, в безоблачном детстве остались прокаленные солнцем пыльные поселки, по которым идешь, будто по горячей муке, а вдали в знойном мареве дрожит зубчато-голубая гряда Алтайских гор.
Думал Федор обо всем. Но о будущем не хотел думать. Боялся. Боялся воды. Хорошо еще, Женька рядом. С ним от скуки не пропадешь. Он уже со всеми сестрами перезнакомился, выторговал места получше, у окна, радио в палату провел, спирт откуда-то притаскивал. На все руки мастер!
Лежать на чистых, прохладных простынях и слушать тихую музыку по радио не так уж плохо, если бы только не боли в ногах. Из-за этих проклятых ног каждый день краснел, потому что каждое утро приходила Нина делать уколы в ягодицу.
Мучительно стыдясь, потеющими пальцами Федор развязывал тесемки бязевых кальсон. Напрягаясь, уткнувшись лицом в подушку, он ждал, когда закончится эта проклятая процедура. А Нина говорит: "Расслабь тело, не напрягайся, плохо колоть", — и легонько гладит рукой ягодицу.
Нина делала свое дело привычно, ловко, не обращая внимания на стыдливость Федора.
Но лежал ли, сидел ли, читал ли, Федор всегда подсознательно, не признаваясь себе, ждал быстрые и легкие шаги в коридоре. А как только слышал их, так гулко стучало в висках. Нина часто заходила в палату, приносила лекарства, обед, газеты, спрашивала, не надо ли чего.
Первые дни, когда Федор лежал пластом, Нина не отходила от него. Просыпаясь ночью, он видел ее слабо освещенное настольной лампой лицо, встречал ее сострадательный взгляд, тихую успокаивающую улыбку. Серые глаза ее по ночам были темными, мягкими и бездонными. Хотелось смотреть в них без конца, и чтобы они на тебя тоже все время смотрели.
Нина давала пить, поправляла одеяло и легко и ласково гладила руку. Становилось хорошо, боль отпускала. Федор улыбался в ответ и погружался в какой-то зыбкий приятный туман, где вместе с ним всегда была она, ее улыбка, ее прикосновение.
Потом, когда ему стало легче, она перестала сидеть около него, но часто заходила в палату, и он всякий раз радовался, а когда она уходила, то ревновал ее к другим больным.
Текли дни. Дело шло на поправку.
Когда ребята возвращались с работы из порта, они обязательно забегали к Федору с Женькой. Толик являлся с книгами. Женька клянчил у него про любовь, но Толик приносил про героев. Степан таскал сладости, будто детям. Ласточкин всякий раз, строго сдвинув брови, спрашивал, слушают ли они радио, сводки Совинформбюро, и вообще не отстают ли в политическом отношении.
Однажды пришел Демыкин, подмигнул и вытащил из-под полы накинутого на плечи халата бутылку рома с красивой этикеткой.
— Английский. У "торгашей" выменял. Караван пришел. Потрепали их здорово. Немцам тоже всыпали: две подлодки накрылись.
Разлили по кружкам, сказал тост:
— За геройство Бабкина. За твое спасение, Федор. Крышка бы тебе, деревянный бушлат, если бы не Женька.
Сам выпил первым. Был он какой-то беспокойный, подавленный, спрашивал про Нину: была ли. Когда ушел, Женька сказал:
— Разжаловали его. Боится — Нинка ему отставку даст. Подставил ему Степка ножку. А за что? Хороший парень.
— За дело, — сказал Федор.
— Чего там за дело? Все жить хотят. Возьми офицеров — тыщи огребают, или какое другое начальство, хотя бы на гражданке. Права качают работягам, а сами на их шее сидят. А если работяга заработал чуть, так уж тут же и отобрать. Да еще и такой же дурак найдется, как Степка, и против своего же брата выступит.
— Неправду ты говоришь. Деньги он эти не заработал, а украл фактически.
— У тебя, что ли?
— Нет, у государства.
— Во-во! Повторяешь, как попка. Любой начальник тоже кричит: "Нельзя брать у государства!" — а сам берет и у государства и у работяг.
— Ну, это ты брось!
— Чего брось? Хочешь пример? Тебе сколько лет?
— Ну как, сколько? Семнадцать, знаешь ведь.
— Это по документам, а по-настоящему?
—— Ну, как "по-настоящему"? — удивился Федор. — Сколько по документам, столько и на самом деле. Ты чего?
— Ну пусть, хотя на вид и больше можно дать. Особенно теперь, седому. А вот мне тоже семнадцать по документам, а на самом деле двадцать.
Пораженный Федор глядел на Женьку.
— Не хлопай гляделками — точно. Это я тебе как другу говорю. Я бы давно службу