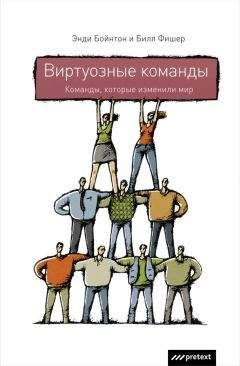— Какой джентльмен?
— Это я! — пробасили в ответ.
Уильям подскочил и невольно развернулся всем корпусом к двери, задев доску и рассыпав веером фигуры.
Дверной проем закрывал собой коренастый пожилой мужчина, обширную фигуру которого делал еще обширнее толстый плащ-крылатка, покрытый каплями дождя. Дополняли облик венчик седых волос, орлиный нос, набрякшие пунцовые щеки и маленькие, но яркие, словно бриллианты, глаза. Они уставились на Уильяма, и в них тут же мелькнуло узнавание, а из посиневших от холода губ вырвался рев:
— Ты и есть Уильям Дерсли! Конечно же! Сразу тебя признал. Ты ведь меня помнишь? Ну, разумеется, помнишь!
Он шагнул в комнату, потянув за собой промозглый уличный холод и ощутимый запах бренди. Уютный покой разлетелся вдребезги, словно весь внешний мир вдруг вломился в комнату разом, с ревом и топотом.
Уильям отодвинул кресло, не сводя глаз с незнакомца.
— Вы дядя Болдуин, да?
— Точно! — сипло восторжествовал гость. — Твой дядя Болдуин! Болдуин Тоттен. А где Люси? То есть твоя мать. Уже легла?
— Мама? — Уильям растерялся. На одно безумное мгновение ему показалось, что все летит кувырком, время обратилось вспять, и связь событий порвалась. Потом его осенило, что пожилой дядюшка, видимо, страдает потерей памяти. — Вы же знаете… Мама умерла.
— Что?!
— Почти год назад.
Дядя Болдуин схватился за отодвинутое Уильямом кресло и внезапно рухнул в него, тяжело дыша. Щеки еще больше запунцовели, губы посинели. Дар речи, кажется, его покинул.
— Я ведь писал вам, — напомнил Уильям осторожно.
Минуту дядя Болдуин отчаянно сражался с каким-то невидимым врагом, затем наконец выдохнул:
— Я ничего не получал, ни словечка. От чего она умерла?
— Сердце. Как-то все внезапно случилось.
Это дядю Болдуина не удивило.
— Семейное. У самого та же беда. Сердце как гнилое яблоко. Оттого и страдаю. У тебя найдется бренди?
Миссис Герни, которая слушала и смотрела на происходящее из-за порога комнаты, немедленно отправилась за бренди.
— Я, наверное, пойду, Уильям, — подал голос Гринлоу, собиравший все это время рассыпанные шахматные фигуры и потому ушедший в тень. — Нет, провожать не надо. Спокойной ночи. И вам, сэр.
Глоток бренди вернул дяде Болдуину связную речь.
— Письма я не получал, но чему тут удивляться. Наверное, не догнало меня. Вот удар так удар… Возвращаешься, значит, — продолжал он с горечью, обращаясь уже будто не к Уильяму, а к Всевышнему или силам, управляющим вселенной, — возвращаешься повидаться с сестрой, которую не видел восемнадцать лет, а тебе говорят, что она умерла. Скончалась и похоронена. Она ведь к тому же младше меня, твоя мать, на четыре года младше. Как она меня любила, души во мне не чаяла — в детстве, до встречи с твоим отцом. Про его кончину я в курсе. Это письмо я получил. Пять лет назад, да?
— Четыре. Хотя да, уже почти пять.
— Он изрядно сдал перед смертью, насколько я помню? Старше меня был. Мне шестьдесят восемь. Год назад я себя и на пятьдесят не чувствовал. А теперь вот, как вернулся — ох, какая же адская здесь холодина зимой, — так мне уже вся тысяча, а то и миллион, истинный Мафусаил, и сердце как гнилое яблоко. И к тому же… — Дядя принялся выпутываться из своего тяжелого плаща, и Уильяму пришлось ему помочь. — К тому же, чем старше становишься, тем все вокруг омерзительнее. Сплошное расстройство, куда ни глянь. Разорение, немощь, смерти одна за другой.
— Двигайтесь поближе к огню, — пригласил Уильям, уже оправившийся от изумления. — Я повешу пальто. Вы что-нибудь ели?
— Еще как ел, сынок, спасибо. За стол не хочется. Вот и еда туда же, перестает радовать. — Он вытащил трубку и кисет. — Зато покурить я не прочь. Не следовало бы, понятное дело, но ведь, черт возьми, чем-то надо заниматься. Не сидеть же весь день совиным чучелом. Да, у меня там кое-какой багаж. — Дядя указал большим пальцем за плечо, на дверь.
— Хотите, я схожу? — предложил Уильям.
— Не беспокойся, он в доме, ничего с ним не сделается. Иди сюда, садись. — Он подождал, пока Уильям усядется во второе кресло. — Значит, теперь ты тут хозяин? Как солодильня, процветает?
Уильям кивнул.
— Дом, имущество?
— В сохранности, — ответил Уильям.
— Да ты богаче меня. — Дядя Болдуин попыхтел трубкой. — А ведь я почти всю жизнь без продыха… Но ты, наверное, гадаешь, зачем я пожаловал.
Уильям неопределенно улыбнулся, не сводя взгляда с внушительного дядюшкиного носа, на котором отблески огня играли, словно закатные лучи на вершине горы.
— Приехал повидаться, сынок, — объявил дядя Болдуин. — Не писал, потому что никогда не пишу, разучился уже. В тех краях, где я живу, никто никого не предупреждает. Всем рады. Не трудись объяснять, что здесь принято по-другому, сам знаю. Но я думал, твоя мать будет рада встретиться со старшим братом, через восемнадцать-то лет.
— Непременно, — заверил Уильям. — Она много мне о вас рассказывала, дядя.
— Да? Рассказывала? — Дядя Болдуин, умилившись, принялся ерошить кончиком трубки седой венчик на голове. — Эх, она единственная из всех, кем я дорожил, дороже ее у меня никого не было. Остальные пусть пропадают пропадом. Ты дядю Эдварда часто видишь?
Уильям признал, что дядю Эдварда не видит годами.
— Вот ведь святоша длинноносый! И ничего, жив-здоров, дела идут. Встретился с ним в Лондоне, часа мне за глаза хватило. У него сейчас три лавки, деньги заколачивает без устали. Заколачивать-то заколачивает, — дядя Болдуин глухо рассмеялся, — а тратить ни-ни, не дождешься! Он с детства такой. Сколько раз я пинал его под зад, просто чтобы расшевелить — не сосчитать! И в этот раз хотел его пнуть. Уже и ногу занес. Он даже словом не обмолвился о Люси — о твоей матери то есть, — ни словечка… Только о своих лавках и талдычил. Но я ведь не за этим приехал, — посерьезнел дядя, — совсем не за этим…
Уильям посмотрел на него вопросительно. Он еще не освоился со своим загадочным родственником, свалившимся как снег на голову с другого края света. Последний раз Уильям видел дядю в свои двадцать два, зеленым робким юнцом, много лет назад, еще до войны, когда мир был совершенно другим…
— Разговор, значит, у меня к тебе такой. Теперь ты тут хозяин, Уильям. Перед тобой твой дядя Болдуин, но хоть он тебе и дядя, ты ему ничего не должен, потому что он для тебя ничего не сделал. Вот он тут, и он собирался погостить — неделю, месяц, а может, три. Если ты против, только скажи, и он уйдет. Там, конечно, промозгло и сыро, но это пустяки, ты только скажи, и он уберется восвояси, прямиком туда, откуда прибыл. У него тут кое-какие пожитки, но они тоже исчезнут, как не было. Вот такие дела.