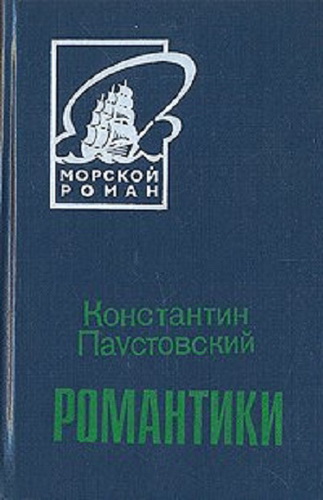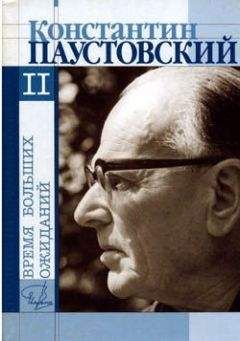смотреть на отблески солнца в вокзальных стеклах, читать статьи о Художественном театре, выставках и книгах. Разбить на тысячу осколков свою напряженную мысль, запутанную войной.
Я согласился. Перед отъездом я поднялся к костелу. Внутри едва слышно служил ксендз. Стоя на мшистой паперти, я написал открытку Хатидже:
«Три месяца нет писем. Очевидно, они теряются по полевым конторам. Я даже не знаю, где ты. Я втянулся в суровую жизнь войны, и часто у меня бывает ощущение, точно вернулись времена «Войны и мира». Где-нибудь на широких шоссе во время отступления я встречу тебя и найду тогда смысл всего совершающегося, который я никак не могу найти сейчас. Здесь Алексей, я завтра его увижу. Еду на неделю в Брест».
Я подумал и написал вторую открытку Наташе:
«Я жду от вас писем. Мне очень трудно оставаться наедине с собой в здешние злые ночи. От канонады, грязи и бабьего плача всегда болит голова».
В Скаржиско на вокзале я встретил Алексея. Мы расцеловались. Он отодвинул меня, осмотрел и сказал:
— Ну вот, свиделись. Ты здорово подтянулся.
Тут же на вокзале мы столковались с Козловским о том, чтобы взять Алексея в наш отряд.
Козловский и Щепкин уехали, а я остался до утра в Скаржиско. Мы ходили с Алексеем в дощатое холодное кино, где Макс Линдер учился кататься на коньках, много говорили. Я рассказал ему о смерти Винклера.
— Да, — сказал он. — Глупо умер старик. А Сташевский тоже здесь, на фронте, под Ломжей. Георгия получил.
Ранним утром я уехал в Брест. За Радомом было солнечно, а около Бреста застал нас вечер, золотой от вагонных свечей и синий от ранней весны.
Козловского я разыскал в общежитии Союза городов. Он был возбужден: встретил знакомую сестру, бывшую артистку. Когда я вошел, он сидел и брился. Бородатый солдат — денщик при общежитии — чистил его сапоги.
— Друг мой, — сказал Козловский, тщательно разглядывая свой подбородок. — Почистите сапоги, и пойдем в гарнизонный клуб — там концерт. Я познакомлю вас с очаровательной женщиной. Когда-то я был в нее влюблен.
Он вытерся одеколоном и запел:
Голос твой — пенье задумчивой сказки,
Сладкая боль небывалой весны…
В клубе было темно и тесно. Звенели шпорами выхоленные кавалеристы, скромно стояли у стен серые прапорщики с вылинявшими погонами, гремел хриповатым басом седой вертлявый генерал.
Я сидел рядом с панной Геленой. Резкий запах ее духов не давал мне уснуть. Разбитое тело ломило в тепле. Козловский шепотом рассказывал невероятные истории о дрессированной кошке, которая носит приказы в окопы.
— Но кто над могилою едет… — пел басом бледный офицер, — знамена победно шумят…
Я дремал и видел полки призраков — солдат старой гвардии в снегах Москвы и впереди, среди шумящих по ветру знамен, корсиканца-императора.
И встанет к тебе, император,
Из гроба твой верный солдат.
Мне снилось, что я живу в старом Париже, встречаю императора и его маршалов, читаю желтоватые страницы Руссо, поглядывая из окон мансарды на Тюильри, озлащенный пышным закатом. Мне снились знамена с бронзовыми орлами на древке и старый камин, где горят сосновые щепки. Я мечтал при его огне об Адриенне Лекуврер, маленькой артистке в розовом парике, отравленной неизвестным ядом. В ветхом камзоле я бродил по заросшим ромашкой предместьям, играл на пальце перстнем с профилем Робеспьера и гадал, в какие новые и великолепные одежды облачится завтра этот мятежный город.
— Бедный, как он устал, — сказала панна Гелена и тронула мою руку. — Проснитесь.
Я открыл глаза, вздрогнул от холода, и в ту же минуту па улице запела труба. В церквах зазвонили. Все встали и, теснясь п перекликаясь, двинулись к выходу. Эстрада опустела.
— Цеппелин, — сказал кто-то в толпе.
За стеной прогремел тяжелый гром, и еще тоньше задрожали трубы. Мы вышли. В спиртовом свете тающего снега темнели метлы вековых тополей. Без огней прошел, мягко прыгая на ухабах, автомобиль.
Потом бледная молния прорезала небо, и над нами звонко раскололась первая шрапнель. Через минуту со всех фортов запели и загудели снаряды, снова грузный гром потряс дома, и в стороне вокзала поднялось неяркое пламя.
В небе засуетились, мешая друг другу, прожекторы.
В общежитии я вышел на балкон и смотрел на светящиеся хвосты снарядов.
Весенняя тишина стояла между взрывами — сырая, черная, печальная.
Я чувствовал тугую неприятную усталость. Ворочаясь под шинелью, я услышал, как Козловский раздевался и пел вполголоса «Голубое письмо» Северянина:
И веют жасмины, и реют гобои,
И реют гобои, и льется луна.
На третий день, когда я лежал на койке, пришел Козловский и сказал, что меня командируют в Одессу принять с завода новые двуколки. Поеду я со старшим санитаром, студентом Щепкиным.
— Вам придется выехать сегодня вечером, — строго сказал Козловский. — Через десять дней вы должны быть в отряде. Дело срочное. Щепкин вахлак, негр бамбула, но с ним вам будет хорошо.
К вечеру пришел Щепкин — рослый, упитанный, в потертой до дыр кожаной куртке. Он не торопясь выпил пять стаканов чаю, рассказал, как надо покупать швейцарский сыр, прокашлялся, запел «Хвала тебе, бог Гименей…», сбился и сказал:
— Ну, что же. Поедем, что ли?
— Едем.
— Пан Козловский! — крикнул он в комнату панны Гелены. — Прощай, старина. Что-то ты надолго окопался в тылу?
Мы попрощались и уехали.
На второй день за окнами пошли бесснежные степи. Был март. Бабы продавали на станциях топленое молоко и бублики.
В Одессу мы приехали к вечеру. Сырая весна пришла вместе с ночью, обдула теплым ветром вагоны и степь. С вокзала я послал телеграмму Хатидже в Севастополь и Семенову в Москву.
Ночевали в подворье Афонского монастыря около вокзала. Рано утром по улицам, затопленным нестерпимым одесским солнцем, мы прошли на бульвар к памятнику Ришелье. Голубые туманы залили порт и город. Был блеск солнечных морских миль над свежей водой, свет полуденных стран, хрустального неба и ветра, душистого, как ранний миндаль. В зеленой вымершей гавани стальным утюгом серел броненосец «Синоп». Женщины продавали под акациями первые цветы. В порту качались у молов синие и белые шхуны, дымил желтой трубой одинокий транспорт. Улицы пахли морем и лимонами.
Щепкин был подавлен — он первый раз видел море.
— Да-а, — сказал он. — Вот это вещь. Да мы что — в России или нет? — И он нерешительно засмеялся.
В кафе Фанкони я рассказал ему о старой Одессе, о богатстве