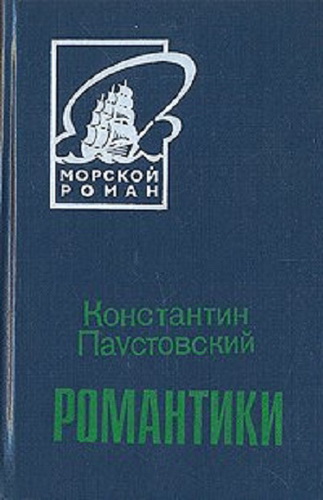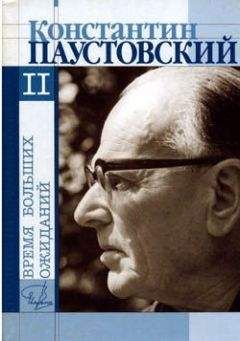В сумерки море и ветер кричали тысячами голосов. Гул стремительных шквалов стал страшен. Мы попали в полосу шторма. Казалось, что солнце погасло навсегда и не вернется на неуютную землю. Ветры точно сорвались с чугунных цепей. Беспомощные, молчаливые и мокрые, мы всматривались набрякшими глазами в ночную тьму, искали огонь маяка — тусклый дотлевающий фитиль, береговой фонарь.
Но его не было, и только ветер мчал мимо нас, взбивая воду, тусклые обрывки тумана. Сотни поездов гудели под небом на невиданных скоростях. Тяжелые струи дождя слепили глаза.
Ветром сорвало кливер. Я полез на бак, поскользнулся на чешуе и разбил руку.
И в ту же минуту ветер обрушил на меня мутный водопад соли, водорослей и тьмы. Меня бросило о палубу, ударило плечом о толстый проволочный борт.
«А-а-а-ах!» — закричал радостно и взволнованно ветер.
Я хотел обругать его, но он воткнул мне в глотку мое ругательство, и я подавился им, как клубком шерсти, — даже заболело горло. Море ходило головами, мылило шхуну пеной.
Я залез в конуру на баке, «каюту», и закурил. Дергало разбитое плечо. Зябли мокрые ноги, плохо закрывались опухшие и разъеденные солью веки. Я смотрел сквозь выбитую дверцу назад, на корму. Все так же стоял там Жучок, крепко расставив ноги, с мокрым измученным лицом. Все так же мутью и пенистыми столбами ходила волна, и я знал, что ни одного рыбачьего паруса, ни одной птицы не было в этом одичалом просторе.
— Огонь! — закричал снаружи Алексей.
Через час огонь маяка сверкал, синий и равнодушный, у борта шхуны, и сильно пахло рыбой и влагой. Шторм был позади.
Осень у моря, черная осень, как девушка, вымокшая под дождем, блестела лиловыми глазами. Ветер шуршал по палубе ворохом желтых листьев, и музыка из приморского «поплавка» рассказывала короткую повесть об огнях, зажженных высоко над морем, о дожде, пахнущем винной пробкой, о хохоте женщин, выпивших горячего вина.
Мы трое, взявшись за руки, прокричали «ура» и спрыгнули на берег.
Мы остановились в дрянной портовой гостинице. В соседнем номере жили цыгане из хора со своими растрепанными женами. Встречаясь с нами, цыганки смотрели зазывающими глазами и бренчали монистами. Иногда они плясали и пели, и тогда казалось, что гостиница рушится от землетрясения под бешеный грохот бубна.
По ночам бывали облавы на проституток. За них вступались пароходные кочегары, спавшие в коридоре. Ругань и гром не стихали до утра.
Мы решили жить в этом городе, пока хватит денег.
Вечером я ждал в греческой кофейне Алексея и Сташевского. Стены кофейни были выкрашены в канареечный цвет, греки играли в кости. На окне сидел белый кот, мылся и презрительно щурил глаза на греков.
Алексей и Сташевский пришли с шумом, зацепили соседний столик и привели с собой серого человека в мятой шляпе.
— Вот он сидит, наш поэт, познакомься.
— Это новый, недавно нашли — бывший ссыльный, эсер. Теперь служит в пароходной конторе. Садись, выпьем!
Они были уже с ним на «ты».
Пышная гречанка с подвязанной щекой принесла две бутылки сантуринского. Эсер Семен Иванович бледно улыбнулся, положил мятую шляпу на окно и сел. Кот потрогал шляпу лапой, обиделся и ушел за стойку.
Очевидно продолжая начатое, они сразу же шумно заспорили.
— Русская литература прошлого века, — закричал Сташевский, — верное средство нажить мигрень! Мямлят о том, что можно сказать в двух словах. Дайте мне Достоевского, я сокращу его на три четверти, выкину воду, и он зацветет по-новому. Что вы мне бормочете про Гончарова. Согласен, может быть, все это очень хорошо, но не могу я его читать, не могу. Нет у него терпкости, не кружит он голову. Сердце молчит, понимаете, сердце не колотится.
— Ну, Максимов, — сказал мне Алексей, — налегай на вино, Сташевскпй завел волынку на три часа.
— А шуму вокруг них на тысячи рублей! — кричал Сташевский Семену Ивановичу. — И профессорского гладенького шуму, и торжественного, и слезливого, и бахвального. Что Гейне, что Верхарн, что Гюго — соплей перешибем! От нас земляной дух, от нас навоз, Христос, справедливость. Мы покажем человечеству путь к истине. Мы — с колтуном в мозгах, с хулиганами, безграмотные лодыри, мы — мессия! Правда, блеснули два-три. За них я и выпью, за Лермонтова, Баратынского, Пушкина. Их вспомнишь — будто бы солнце взошло над этим болотом. Их убили, облизали, пригладили каждый волосок, подобрали все шерстинки с сюртука и не нарадуются на дорогих покойничков! Только в России были кликуши в литературе. «Учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колена». На писателей мы смотрим, как на педагогов. Они нас учат, дурачков, — и на том спасибо. У нас нет людей. У нас нет человека со страстью, смелостью, смехом, простого пленительного человека. Мы все сидим по коробочкам. У нас, видите ли, дорогие товарищи, все эсдеки, эсеры, толстовцы, народники. Все спешат втиснуть себя в ящик с этикеткой и сосать свою принципиальную лапу. Из действительно великих и гневных идей мы выкраиваем свое — великую идею на русский лад и говорим о ней, говорим до тошноты, до того, что самим противно, до подлости. Вот страна грязи, тоски и варваров.
Семен Иванович покраснел.
— Я, собственно, не совсем с вами согласен, хотя, признаться, давно уже отошел от литературы, больше вращался в кругах партийных, и, правду сказать, лучшие люди там редко уживались.
— «Собственно — не признавали, признаться — не уживались», — медленно повторил Стагаевский и яростно посмотрел на Семена Ивановича. — Эх вы, ре-вол-лю-цио-нер! Вам бы в швальне штаны шить!
— Все это самооплевыванье, — вмешался Алексей. — Довольно! Ты мне надоел. Заладил одну пластинку и крутит, крутит, даже в ушах звенит.
— Арестант! — ответил Сташевский и залпом выпил свой стакан.
От сантуринского кружилась голова. Хотелось говорить без умолку. Девушка за соседним столиком пустила к потолку воздушный шар — красный и большой. Дым качался над нами, и дружно хохотали греки. Я встал.
— Вы прекрасны, — сказал я девушке. Ее спутник повернулся ко мне вместе со стулом. — Но вы совсем не знаете, как жить. Сейчас я расскажу вам, одну минуту, вот только налью вина.
— Ура! — крикнул некстати старый грек.
Спутник девушки пожал плечами и отвернулся.
— Довольно философии! — закричал Алексей. — Пей! Залей свои туманные мозги, пока они не разгорелись. Смойся же ты, клюквенный экстракт, чертов революционер! Кто вам сказал, что надо думать? Это совсем не обязательно. Это не продлит вашу жизнь ни на минуту.
Старый грек в котелке и широких брюках подошел к нам и захихикал. Нос у него был кверху