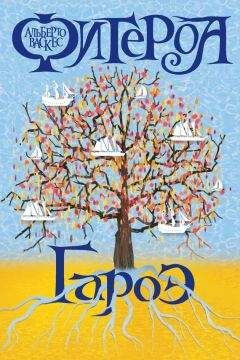Здесь, в этом мирке, время словно бы никуда не спешило, и дни протекали однообразно, похожие один на другой, а про смену времен года говорил только прилет и отлет альбатросов.
Два корабля, одним из которых был уже знакомый Оберлусу фрегат «Белая дева», прошли очень близко, но не бросили якорь, а третий, быстрая и юркая фелюка, тщетно пытался отыскать хоть кого-нибудь из выживших пассажиров шхуны «Иллюзия», которая покинула порт Гуаякиль при благоприятном ветре, спокойном море и с опытным капитаном, но так никогда и не вернулась обратно.
Фелюка, посланная матерью Диего Охеды, в течение двух долгих месяцев обследовала каждую бухту, каждый пляж и каждый утес архипелага, так и не обнаружив ни следов изящной шхуны, ни тех несчастных, что находились на борту, — и в итоге был сделан неутешительный вывод о том, что внезапный порыв ветра вынес судно в открытое море или же оно подверглось нападению одного из диких китов-убийц, которые иногда попадаются на пути между островами и материком в периоды миграции с полюса на полюс.
Случалось, что косатка нападала на корабль, топила его и пожирала тех, кто на нем плыл, так что такое объяснение таинственного исчезновения «Иллюзии», хоть и с большой натяжкой, могло быть принято.
Когда, уже на обратном пути, фелюка прошла на расстоянии брошенного камня от утеса, высившегося с наветренной стороны острова Худ, никто на борту не мог даже вообразить, что там, в потайной пещере внутри этой высокой каменной стены, находится в заточении, на длинной цепи, единственная оставшаяся в живых пассажирка шхуны «Иллюзия».
А тем временем Малышка Кармен — теперь она и сама не помнила о том, что когда-то ее так звали, — полностью освоилась со своим новым существованием — настолько, что ей казалось, будто она никогда и не знала никакого другого.
Огромная пещера была ее миром, пусть и не вся, а только та часть, куда позволяла дойти длина цепи; и хотя время от времени она ясно осознавала, до какой степени опустилась в своей добровольной деградации, она предпочитала отгонять от себя подобные мысли.
В свои двадцать шесть лет Кармен де Ибарра — которая никогда не была дурой, хотя ее поведение зачастую давало основания для такого предположения, — была уже достаточно зрелой, чтобы сообразить, что если она займется глубоким анализом своих чувств, то ей придется проникнуться глубоким презрением к себе самой, и в результате она не сможет выжить от стыда.
Она разрушила много жизней и много семей, среди прочих — свою собственную жизнь и свою собственную семью, поэтому ее сознание отказывалось принять, что она поступила так не потому, что не смогла преодолеть тягу к свободе, а в силу своей глубокой испорченности, заставлявшей ее отвергать тех мужчин, которые не подчиняли ее себе до такой степени, до какой она бессознательно желала чувствовать себя покоренной.
Как признаться себе самой, что жаждешь ощутить себя презренной, униженной, оскорбленной, избитой и низведенной до простого орудия удовлетворения сексуальных потребностей для отвратительного и грубого существа, один вид которого вызывает тошноту?
Допустить это означало бы то же, что допустить собственное умственное расстройство и то, что те, кто называл ее сумасшедшей, когда она разрушила свой брак или свои отношения с Херманом де Арриага, были абсолютно правы.
А ведь, по сути, разве не была своего рода безумием эта, не поддающаяся определению связь, которую она поддерживала с похитителем — с тем, кого ненавидела и от кого временами ее с души воротило, но кого она желала и в ком нуждалась с болезненной тоской?
Двойственность и глубина собственных чувств ее обескураживали, и, возможно, сама того не понимая, в целях самозащиты, она предпочитала не напрягать ум и проживать дни, словно долгий сон, от которого она в любой момент непременно очнется.
Что касается Игуаны, от него не укрылась перемена в поведении пленницы, и, хотя у него не было абсолютно никакого опыта взаимоотношений с женским полом, эту перемену он ощущал даже кожей в тот момент, когда обладал пленницей.
Естественно, он был не в состоянии определить, действительно ли женщина кричит от удовольствия или притворяется, но вот понять, когда она испытывает отвращение, мог как никто другой — и теперь считал, что пленница, по крайней мере, привыкла к его присутствию и к его прикосновениям.
Он уже не чувствовал, чтобы она напрягалась и обмирала в тот момент, когда он к ней приближался и начинал ласкать; а когда он в нее входил, встречала его не полнейшей отстраненностью первых дней, а влажным, теплым трепетанием, благодаря которому можно было скользнуть в нее на удивление мягко, чтобы тут же ощутить, как ее влагалище, уже пылая, охватывает его член, зажимая и не отпуская.
Кроме того, они начали вести долгие разговоры; он рассказывал ей о своей жизни, о годах, проведенных гарпунщиком на вонючих китобойцах, и о далеких и диковинных краях, где ему довелось побывать во время многочисленных путешествий.
Однако больше всего — больше, чем о себе самом, — ему нравилось разговаривать с ней о прочитанных книгах и нравилось узнавать что-то от нее, он старался найти у нее подтверждение своим представлениям о суше или о поведении людей, которое совершенно не укладывалось у него в голове.
— Вдали от моря не может быть жизни, — уверенно заявлял он.
— Ты ошибаешься, — возражала ему она, — для большинства людей как раз берегом моря заканчивается возможность жизни. Земля плодородна, щедра и миролюбива, и мы всегда знаем, что от нее ждать. Но кто может положиться на море? Сегодня оно кажется спокойным и щедрым, а назавтра впадает в ярость и все сокрушает, заглатывая корабли и мореплавателей. Не понимаю, как тебе может нравиться море.
— Если бы не оно, я не смог бы терпеть столько лет насмешки и презрение. Море успокаивало меня в минуты гнева, к тому же при виде его бескрайности я понимал, что ни я, ни кто другой ничего не значит. — Он умолк. Вероятно, впервые его взгляд и тон казались Малышке Кармен иными, отражающими человеческие чувства — Разве я сам выбрал себе это лицо и это обличье? — продолжил Оберлус — Однако же все только и делали, что оскорбляли меня и попрекали этим, и, клянусь тебе, мне понадобилось много времени, чтобы свыкнуться с мыслью о том, что никто — слышишь, никто! — не будет держаться со мной приветливо.
— Это, должно быть, тяжело.
— «Тяжело» — не то слово. — Он покачал своей бесформенной головой, словно ему было нелегко поверить, что он пережил те времена. — Нет такого слова, которым можно это описать. Их не трогали даже мои слезы, хотя, правду сказать, я очень быстро разучился плакать. Однажды я понял, что всю жизнь искал сочувствия, а на самом-то деле желал вовсе не сочувствия.