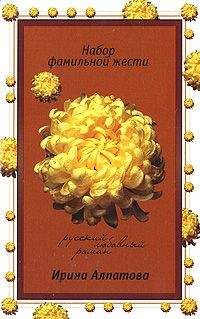— Мало-мало пирога кушай...
Ну зачем это, Лешка, — воспротивился моряк. Китаец движением руки остановил его:
Твоя много чифан, скоро-скоро поправляйся буду...
Спасибо, брат, — Журба несколько раз затянулся из трубки, помолчал и вытащил сверток из-под подушки. — Это... того... давай вместе.
Моя хорошо чифан, моя кока, — заулыбался Ли Ти-сян, поглаживая себя по животу.
Журба развернул бумагу. В ней оказалось пять аппетитно поджаренных пирожков. Они были еще теплые. Максим Остапович протянул пирожки другу:
— Бери... тогда и я буду есть!
Ли Ти-сян с неохотой взял самый маленький пирожок. Как ему хотелось, чтобы все их съел Журба. Если бы он только знал, как Ли Ти-сяну было приятно готовить их для Журбы, готовить в секрете от поваров из капитанских запасов муки и мяса, рискуя каждую секунду быть пойманным на месте преступления.
- Вкусно, — похрустывая румяной корочкой, говорил
Журба. — Хорошо ты готовишь, Лешка! Тебе бы в большом ресторане служить...
Моя тебе пельмени буду стряпай, — радостный от похвалы друга пообещал Ли Ти-сян.
Нет, Лешка, — Журба старался говорить как можно мягче. — Нельзя так. Пусть эти пирожки будут по следними. Почему я должен есть лучше других?
Он кивнул на сидящих за столом матросов. Ли Ти-сян хотел ему возразить, но не мог подобрать слов. Какое ему дело до всех этих чужих людей. Журба — его друг.
Максим Остапович по взгляду и выражению лица Ли Ти-сяна понял, о чем он думает, и сказал:
Так надо, Лешка!
Как твоя говори, так моя делай, — огорченно про шептал Ли Ти-сян. — Твоя лучше знай.
Мимо них прошел Скруп в своей длиннополой куртке из толстого синего сукна с медными пуговицами. Лицо матроса было задумчивым, даже грустным. «Старый человек, — пожалел его Журба. — Ни товарища, ни друга. Посмеиваются матросы над его богомольностью. Видно, не от хорошей жизни молится».
Скруп вышел на палубу. Вечерело. Матрос медленно брел вдоль борта, смотря прямо перед собой. Правая его рука была опущена в карман. Пальцы крепко сжимали рукоятку ножа, и в душе Скрупа накипала злоба. Как этот нож вопьется в ее тело! Ведь у него такое тонкое, такое острое лезвие. Один удар — и все кончено: беда, нависшая над базой, исчезнет. Скруп знает, очень хорошо знает, что происходит тогда, когда на корабль приходит женщина...
Капитан, матросы не видят этой опасности. Они заколдованы черными глазами дьяволицы. Как она сегодня смотрела на море, когда уходили китобойные суда. О! Скруп еще сильнее сжал нож. Ладони стало больно, но от этой боли он испытывал сладостное ощущение. Скорей бы! Нож войдет, как игла в масло. И бог увидит, что Скруп — его верный слуга на море. Матрос поднял лицо к потемневшему небу, посмотрел на запад. Там далеко за скалистой береговой стеной, тонкой пурпурной полоской разлился закат.
Скруп остановился. Взгляд его помутневших глаз был прикован к пылающему горизонту. Кровь! Вот оно предзнаменование. Сам бог велит ему сегодня свершить заслуженную кару над дьяволицей. И он сделает это.
Старый матрос жадно глотнул воздух, лицо его передернулось, исказилось, картины прошлого встали перед глазами. Он видел высокие волны, которые несли корабль на скалы у Оркнейских островов. Бурей были снесены мачты, волнами разбит фальшборт. Шлюпки давно слизало море. Кораблю грозила гибель. Острые рифы, как черные зубы, торчали из бушующей воды и вот-вот должны были вонзиться в днище судна, а там смерть в водовороте, на гранитных скалах. И все это из-за женщины, которую капитан взял в Ливерпуле. Тогда Скруп стоял за штурвалом, но судно не слушалось руля, и Скруп начал седеть. Он звал бога на помощь, и тот услышал его. Выбежавшая на мостик женщина была подхвачена волной или, быть может, Скруп помог волне взять то, что ей полагалось.
Исчезла женщина, исчезла и опасность. Корабль пронесло мимо рифов, и все остались живы...
Когда же Скруп поступил на угольщик, то и там его подстерегала опасность. Женщина с ребенком-девочкой упросила капитана взять ее до Гонконга. Скруп знал, что это принесет несчастье. Так и случилось. Машина вышла из строя, и две недели пароход носило по Атлантике. Тогда Скруп сделал то, что он делал всегда. Он пришел на помощь, он спас судно и команду от гибели. Ночью он пробрался в каюту пассажирки, и его руки быстро нашли ее горячее горло. Как билась эта дьяволица под его руками. Но от Скрупа никто не уходил. А девчонка даже не успела заплакать... Стоило лишь их отправить за борт, как утром им встретился пароход и оказал помощь. Скруп никому не сказал о своем богоугодном поступке... Он никогда не говорил о них. А их было много, и сегодня он совершит еще один...
Закат потемнел, точно застывающая кровь. Скруп шептал молитву, не сводя с него глаз. Он был верен своей клятве, которую очень давно дал себе Он был еще мальчишкой, юнгой, когда погиб его отец. Тогда моряки говорили, что все случилось из-за женщины, которую рыбаки взяли с собой в море...
Скруп вновь ощутил рукоятку ножа. Он хотел бежать в каюту к Захматовой, но его остановил голос боцмана:
- Скруп! Довольно пялить глаза на небо. Берись-ка
за точило!
Старый матрос покорно подошел к группе моряков. Они при свете фонарей заканчивали точку флейшерных ножей.[15]
Флейшерные ножи — серпообразные широкие лезвия на метровых деревянных рукоятках для разделки китовых туш.
Скруп молча взялся за ручку и стал ее размеренно крутить. Матрос, водивший по точилу лезвием, из-под которого вылетали искры, предложил:
- Помолись Скруп, чтобы наши флейшеры закалились и их не пришлось больше точить.
Моряки захохотали. Скруп молчал. Он не обижался на товарищей. Погрязшие в пороках, они не ведали о том, что им грозит. А он знал. Поэтому он терпеливо ожидал, когда его отпустят, читая про себя молитвы.
Стало уже совсем темно, когда Скруп, наконец, освободился. Он брел по палубе, а перед его глазами все еще белело лезвие ножа и сыпались искры. Они, как капли крови, которые брызнут из-под его ножа...
Скруп осмотрелся. Люди на палубе не обращали на него внимания. Он это хорошо чувствовал, как зверь, крадущийся к своей жертве. Старый матрос незаметно скользнул на трап, ведущий на вторую палубу, на корму. Там прямо с палубы был вход в каюту врача. Короткие ноги Скрупа переступали неслышно. Он весь обратился в слух. Тихо, спокойно. Вблизи нет людей. А вот и желтая дверь каюты. На ней табличка с надписью: «Судовой врач». Скруп постоял перед дверью секунду, потом тенью пробежал вдоль переборки и взглянул в освещенный иллюминатор каюты.
Елена Васильевна сидела в кресле, откинувшись на спинку. Руки ее безвольно лежали на подлокотниках. В пальцах правой руки дымилась папироса. Голубоватая струйка, медленно извиваясь, тянулась кверху. На Захматовой было темное, туго обтягивающее грудь платье.