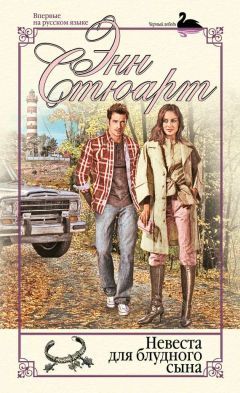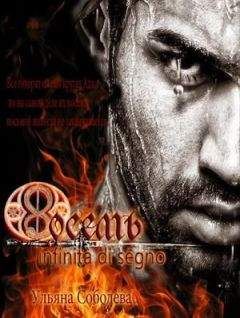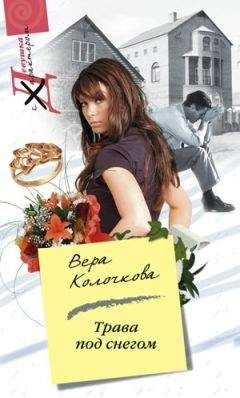При этих словах Собенин нервно скривил тонкие губы в недоброй усмешке, худые плечи его под широким кителем как-то зябко передёрнулись.
— Хотите, и я буду с вами до конца откровенным? — вдруг предложил он.
— Валяйте, — с пренебрежением согласился Егор.
— Иногда я искренне сожалею, что институт комиссаров у нас больше не существует в том виде, в каком он был в годы гражданской войны. Многих ошибок тогда удавалось избежать именно потому, что в боевом приказе рядом с командирской непременно должна была стоять и подпись комиссара. Честно скажу: в данном случае я бы свою подпись рядом с вашей ни за что не поставил бы.
— Да этого, к счастью, от вас и не требуется. Вы опять забываете, что у нас на флоте давно уже существует единоначалие. Вы хотя бы понимаете, что это такое? Вы же, наконец, пребываете не у себя в сельском райкоме, а на борту боевого подводного корабля. Это, между прочим, большая разница, а то и целых две — как говорят на одесском привозе.
— Я понимаю ваш упрёк. Разумеется, я не кадровый офицер, и это даёт вам право говорить, что я недостаточно компетентен в узко специальных вопросах службы. Но ведь в политорганах тоже о чём-то думали, когда назначали меня на лодку. Выходит, мне тоже доверяли. Или как?
— Возможно, — согласился Егор и сразу резанул. — Вопрос в том, насколько вы оправдываете это доверие. Во-первых, вы до сих пор не сдали положенные зачёты по устройству лодки, вследствие чего можете стоять вахту лишь в качестве дублёра. Но даже этого выполнять в полной мере вы не в состоянии. Возьмите, к примеру, хотя бы ваше недостаточное самообладание во время недавней качки…
Непрядов хотел было напомнить Льву Ипполитовичу, что он во время своей последней политинформации настолько расслабился, что не утерпел и, на виду у всех, «блеванул» прямо под стол. Однако решил своего боевого комиссара окончательно не добивать.
— Это уже другой разговор, — буркнул Собенин.
— Вот именно, и довольно серьезный… Кстати, замначпо на эту тему беседовал с вами?
— Да беседовал, беседовал, — с досадой ответил Собенин. — И не только об этом.
— А ему вы что, тоже не доверяете?
— Что, значит, не доверяю?
— А то самое…Колбенев полностью согласен был с принятым мною решением.
— Это его дело, он за это отвечает. Свою точку зрения по такому случаю я достаточно ясно ему изложил. Одно могу лишь сказать: пока чувствую небольшую красную книжицу вот здесь, у самого сердца, — для большей убедительности Собенин постучал себя скрюченным пальцем в нагрудный карман кителя, — я не потеряю партийной бдительности.
— Что ж, эта самая книжица, как вы говорите, есть и у меня, и у многих других на корабле. Кичиться этим здесь не принято. По делам оценивается человек, а не только по его партийной принадлежности.
— Как говорится, история нас рассудит, — изрёк Собенин, глядя куда-то мимо Егора, точно перед его взором открывались такие беспредельно светлые дали, о которых командиру было невдомёк. В это мгновенье Собенин будто возвышался над самим собой.
«И впрямь как монумент нерукотворный», — невольно подумал Егор, припомнив прозвище, которое моряки дали своему замполиту. И Непрядов с подчеркнутой жёсткостью сказал:
— Прежде всего, море нас рассудит, а потом — начальство, когда в базу вернёмся. Что же касается истории, то будем поскромнее и оставим её своим потомкам. Они уж точно во всем разберутся. Недаром же говорят: большое видится на расстоянии…
— И вот я хотел бы ещё с чем крепко поспорить, — сказал Собенин, продолжая блуждать взглядом где-то далеко.
— Послушайте, Лев Ипполитович, — не совсем любезно оборвал его Непрядов. — Всё, что считал нужным, я вам сказал. Больше к этому добавить нечего. У меня очень мало времени, чтобы вступать с вами в какую-то бы ни было дискуссию. Мы же не на берегу, а в море. Говорить здесь принято кратко, точно, по существу дела. И ничего более.
На скулах замполита шевельнулись тугие желваки. Он поднялся с кресла.
— Разрешите быть свободным, товарищ командир?
Непрядов кивнул, явно не желая продолжать бесполезный разговор. Было и без того ясно, что общего языка ему со своим замполитом теперь не найти. Что-то отталкивающе неприличное было в том, что Собенин пытался навязать своему командиру. Вроде бы ратовал тот за истину, а в подоплёке всех его слов таилась какая-то неискренность.
В состоявшейся перепалке Егор отнюдь не чувствовал себя победителем. Противно было, что в никчёмном споре он не удержался и его «понесло» как взбесившегося мерина в скачках на ипподроме. Не следовало мелочиться в упрёках, пускай даже справедливых. На то он и командир, чтобы оставаться превыше собственных амбиций. Само собой разумелось, что неприятностей на берегу ему теперь не избежать. Но виноватым он считал себя лишь в том, что дал команду изменить курс лодки ещё до того, как послал на берег РДО, прося у командования «добро» поспешить на выручку погибавшим морякам. Позже такое разрешение всё же поступило. Но в суматохе Непрядов как-то забыл сообщить Собенину о полученной с берега телеграмме. Потом вообще посчитал делать это необязательным, лишь намекнув, что «море их рассудит, а потом — начальство…». Теперь можно было лишь гадать, что этот «монумент» наплетёт в политотделе, как только лодка возвратится из похода.
В подводных корабельных буднях, какими бы они утомительными ни казались, у Непрядова всегда была приятная отдушина задушевного общения со своими друзьями. Не часто выпадали минуты, когда они втроем собирались в командирской каюте, чтобы как когда-то в юности поговорить по душам или просто побыть вместе. Кажется, всё давно уже знали друг о друге, но каждый раз на этих подводных «посиделках» открывалось нечто такое, о чём и предположить было нельзя. Вероятно, в этом и заключался их взаимный интерес и неизбывное тяготение друг к другу. За стаканом крепкого флотского чая, перед которым иногда принималось и по глотку разведённого «шила», о чём только не судачили дружки. И никто друг друга не одёргивал, не обвинял в нелогичности и не осуждал за всё высказанное. Кузьму, окончательно оправившегося от долгого берегового сидения, вновь тянуло поговорить о женщинах. Егор довольствовался интересами корабля, рассуждая о своих отсечных заботах и печалях. Но Вадим всё чаще тяготел к высоким сферам большой политики, касавшихся судьбы флота. В минуты откровения Колбенев становился прямо-таки стратегом. Он запросто низвергал «нахрапистую некомпетентность» аж самого первого секретаря, который преувеличивал значение ракет и явно не понимал важности развития корабельной артиллерии. Вадим готов был молиться на бывшего главкома Кузнецова только лишь за то, что он, как никто другой, четко видел, какой в действительности флот необходим стране и защищал эту идею до скончания своих дней.