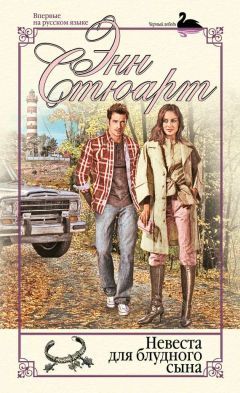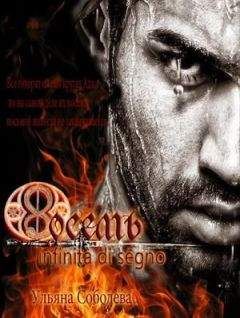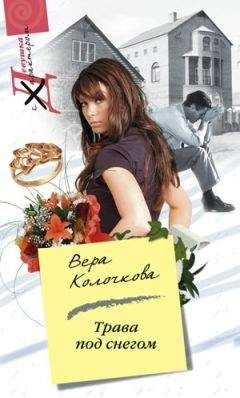Во всей этой кутерьме командир сохранял видимое спокойствие. Широко расставляя на шаткой палубе ноги, он ходил от одного матроса к другому и каждому на ухо говорил нечто ободряющее и сокровенное, хлопая при этом ладонью по плечу — подбодрял, как только мог. Но больше всего Непрядов удивлялся Обрезкову. Его глаза горели какой-то необузданной, злой яростью. Кузьма дублировал команды, подаваемые Егором, с ещё большей решимостью и силой в голосе, прочно впечатывая их в сознание каждого моряка. По всему видно, Обрезков жаждал боя, настоящей мужской драки не на жизнь, а на смерть. Он этого не мог и не хотел скрывать. Только замполит Собенин немым изваянием сидел в углу на ящике с запчастями и не подавал никаких признаков жизни. На его измождённом, непроницаемом лице ничего не отражалось, кроме вселенской пустоты и полнейшей отрешённости. В отсеке Лев Ипполитович пребывал как бы сам по себе, с никому не ведомой миссией очевидца всего происходящего.
Непрядов повернулся было к замполиту, собираясь хоть как-то расшевелить его, но вдруг за бортом рвануло так оглушительно и мощно, что лодка взметнулась на дыбы. В наставшей тотчас кромешной тьме всё вокруг повалилось и посыпалось. И сам Егор почувствовал, как неведомая сила понесла его вместе со всеми куда-то вниз, в небытие, в бездну… Кто-то отчаянно кричал, кто-то матерился, кто-то стонал… Непрядов с ужасом осознал, что в этом обвальном хаосе он уже ничего не мог предпринять. И само собой подсознательной морзянкой застучало в угасавшем сознании: «Помилуй и спаси… помилуй и спаси…» Егор просил об этом кого-то в последней инстанции, на кого была ещё последняя надежда. Как долго так продолжалось, он не знал. Когда же опомнился, вновь приобрел способность осязать и мыслить, то мгновенно догадался, что лодка медленно разворачивалась, вновь приходя в своё естественное горизонтальное положение.
Отчаянным усилием воли Непрядов поставил себя на ноги и заставил двигаться по всё еще наклонной палубе в сторону шахты перископов — там было его командирское место, которое он не должен оставлять ни при каких критических обстоятельствах. Но каждый шаг давался с трудом. Болела и саднила ушибленная спина, в голове шумело будто после крепкого похмелья.
В отсеке слабо и нехотя, как бы с превеликим одолжением, вновь тусклым светом затеплился плафон аварийного освещения, обозначив слепые глазницы разбитых приборов, сорванные и провисающие с подволока трубопроводы и кабели, перекошенные лица людей, выходивших из оцепенения.
— Товарищ командир, лодка не слушается носовых рулей, — сказал боцман, поворачиваясь к Егору. — Где-то заклинило.
И сразу же в переговорке послышался взволнованный голос минёра Дымарёва:
— В первом пробоина — по левому борту!
— Дымарёв, где именно? — потребовал Непрядов уточнить.
После некоторой задержки тот ответил:
— Между восьмым и десятым шпангоутами, товарищ командир. — Приступаем к заделке.
— Быстрее, быстрее, Василий Харитонович! — поторопил Непрядов. — Докладывайте обстановку через каждые пять минут.
— Товарищ командир, Егор Степанович! — настойчиво позвал его механик Теренин. — Начинаем терять глубину.
Егор и сам чувствовал, с какими неимоверными усилиями его лодка, всегда такая послушная, почти «ручная», как он любил её называть за покладистый нрав, удерживалась на глубине. Уже нельзя было ручаться, как она поведет себя в каждое следующее мгновение, переставая повиноваться повреждённым рулям. Егор почти физически ощущал, как от частых разрывов больно было почти что живому телу его лодки. И, вероятно, именно в этом была причина его собственной головной боли, которую приходилось всё время превозмогать. Даже сильно ушибленная спина не так досаждала. Но болела душа, и это было тяжелее любой другой, физической боли. Все Егоровы мысли теперь неотвязно крутились вокруг одного: сумеет ли Дымарёв со своими ребятами заделать пробоину? От этого зависело, сможет ли лодка оставаться наплаву. Собственным нутром Непрядов ощущал, как тяжело в эти минуты приходилось людям, которые там, в первом отсеке, отчаянно боролись за спасение корабля. Хотелось, вопреки всем предписаниям и нормам, наперекор даже объективной целесообразности, оставить командирский пост и поспешить к своим людям на подмогу. Уж он-то на себе испытал, что значит собственной грудью сшибаться с забортной водой, препятствуя её проникновению внутрь прочного корпуса. В тысячу раз ему было бы спокойнее там, по пояс или по горло в солёной воде, но зато при конкретном деле, от которого зависело теперь жить или умереть всему экипажу. Мнилось, что без него могут сделать что-то не так, как надо, где-то непременно промедлят вместо того, чтобы ещё крепче напрячься, или же наоборот — в спешке сотворят такое, чего никак нельзя допустить.
Но что он мог, по рукам и ногам повязанный благоразумием командирских самозапретов? Оставалось лишь упорно ждать, чтобы своим нетерпением не навредить тем людям, которые и без него прекрасно знали, что и как надо делать во спасение себя и других.
А бомбили жестоко, без передышки. И необузданная злость, всколыхнувшись тугой волной, начала захватывать Егора. Он вдруг люто возненавидел тех, кто методично и слепо швырял и швырял глубинные бомбы. Думалось, а с чего бы это, по какому праву кто-то пытается отобрать у них самое дорогое — их жизни, которые никому другому не принадлежат, да и принадлежать не могут. Они же не какие-нибудь бессловесные подводные твари, но живые, мыслящие люди. Так где та крайность, которую по недомыслию или подлому умыслу не видят там, наверху?
Стиснув зубы, Егор в беспредельной ненависти воздел глаза к подволоку, словно за толщей воды, через сталь прочного корпуса мог видеть тех, к кому обращался. «Хвати! Хватит уже, мать вашу бродвейскую и бруклинскую!» — в бешенстве всё кричало в нём.
Будто образумившись, вняв Егоровой угрозе, или просто израсходовав весь имевшийся боекомплект «глубинной смерти», фрегаты отвязались от лодки, дав ей возможность беспрепятственно уходить.
Напрочь заделать пробоину и более мелкие свищи никак не удавалось. Лодка медленно тяжелела от просачивавшейся забортной воды. Становилось ясно, что в таком истерзанном состоянии их подводный корабль долго не продержится. Выход был один: лечь на дно, откачать забортную воду, покрепче залатав корпус, и попытаться каким-либо способом освободить заклинившие рули. Но дело в том, где найти теперь подходящие глубины и более-менее ровное дно.
Егор взял аварийный фонарь и принялся подсвечивать им, стараясь получше разглядеть штурманскую карту. Всё говорило о том, что с его лодкой пытались хитрить. Надводные корабли своим замысловатым маневрированием будто подталкивали к единственно возможному решению. Охватывая лодку огромной дугой, они постепенно теснили её в сторону коралловых островов, вероятно надеясь, что она сядет на прибрежные рифы. Но был и ещё один вариант. Войти в небольшую лагуну одного из островов, окружённую коралловой грядой, и там лечь на дно, благо глубины позволяли это сделать. Поскольку в самой лагуне маневренность кораблей будет сильно затруднена, то едва ли они снова начнут сбрасывать глубинные бомбы. Для повреждённой лодки это был уже шанс.