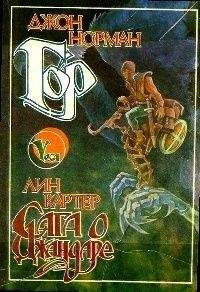Как это случилось, никто не может сказать. В силу непонятного чувства, заставившего марокканцев поверить тому, что Павел – немец и никогда не воевал с марокканцами, они приняли его в свою среду, взяли его к себе, кормили, ходили за ним, передавали его из одной семьи в другую, от одного рода к другому, пока он не очутился на морском побережье и там с торговцами фруктовым повидлом не попал на «Иорикку».
Шкипер взял его охотно, так как нуждался в угольщике, и Павел был счастлив, что попал к нам.
Но через два дня, хотя у него не было никаких злоключений с решетками и уголь в то время лежал ему с руки, он сказал:
– Я не знал, я никогда не думал… Лучше бы я не бежал из легиона. Здесь в десять раз хуже, чем в самой каторжной роте нашего дивизиона. Ведь мы же по сравнению с вами жили, как графы. У нас был и человеческий стол и человеческие квартиры. Я не выдержу, я околею здесь,
– Полно ныть, Павел, – утешал его я.
Но Павел уже подорвал свои силы. Он харкал кровью. Все больше и чаще. Потом кровь пошла у него из горла сгустками. И однажды ночью, когда я пришел его сменить, он лежал на угольной куче вверху на рундуке в луже крови. Он был еще жив. Я поволок его в кубрик и уложил на койку. Утром, когда пришел его будить, он был уже мертв. В восемь часов мы спустили его за борт. Шкипер даже не снял фуражки, а только коснулся козырька. Павла даже не завернули. На нем были лохмотья, слипшиеся от крови. К ногам его привязали тяжелый кусок шлака. Мне показалось, что шкиперу было жаль даже этого куска шлака. В журнал Павла не занесли. Ветер, развеянный ветер. И больше ничего.
Павел был не первый угольщик, которого сожрала «Иорикка» за время пребывания Станислава на пароходе.
Был еще Курт, юноша из Мемеля, тоже без подданства. Во время оптации он был в Австралии, но его не поймали и не засадили в лагерь. Наконец, гонимый тоской по родине, он отправился в Германию. Где-то в Австралии он попал в историю с штрейкбрехерами, и один из этих негодяев уже больше не встал с места. Курт не мог пойти к консулу. Чуть дело коснется забастовки или истории, пахнущей коммунизмом, консул сейчас же готов выдать своего соотечественника на растерзание вчерашним врагам своей страны. Консул, несомненно, передал бы его полиции, и Курту пришлось бы отсидеть свои двадцать лет. Консул всегда на стороне интересов государства, этой великой, славной идеи, поселяющей раздор и бесчинства и превращающей людей в номера. И эта идея так сильно развита в консулах, что они во имя ее готовы предать своих собственных сыновей. А забастовка направлена против государства.
Курту удалось пробраться без бумаг в Англию. Но Англия – предательская страна. Остров вообще предательская штука. На него легко попасть, но трудно уйти. Курту не удалось уйти. Пришлось идти к консулу. Консул спросил у него, почему он уехал из Брисбана в Австралии, почему он там не отыскал германского консула и нелегальным путем пробрался в Англию.
Курт не мог, да и не хотел рассказать правды, потому что Англия обещала ему не больше, чем Австралия. Англичане выслали бы его обратно в Австралию в распоряжение тамошних властей.
В Англии, в одном из консульств, лондонском или другом, где все напоминало Курту о родине, им овладела вдруг такая непреодолимая тоска по дому, что он горько расплакался. Консул прикрикнул на него и заявил, что, если Курт не прекратит этой комедии, он тотчас же выбросит его вон и что он достаточно насмотрелся на таких босяков. На это Курт дал ему тот единственно правильный ответ, какой должен иметь в запасе настоящий мужчина, и чтобы придать ему соответствующий вес, схватил песочницу или что-то в этом роде и швырнул ее в консула. Консул схватился за окровавленную голову, поднял крик, а Курт выбежал и исчез, как вихрь.
Курту, строго говоря, не следовало идти к консулу. Курт был из Мемеля и не оптировался, и консул не мог ему помочь. На это у него не было полномочий. Ведь он, как и другие консулы, был только слугою своего идола.
Теперь Курт был окончательно вычеркнут из числа живых и никогда уже не мог вернуться на родину. Чиновник, должностное лицо, заявил ему, что его тоска по родине была только комедией. Как знать чиновнику о том, что босяк, оборванный бродяга может тосковать по родине? Эти чувства свойственны ведь только тем, кто носит белоснежное белье и каждый день может достать себе из комода чистый носовой платок. Да, сэр.
Я уже не тоскую по родине. Я понял, что то, что называется родиной, отечеством, зашито и зашнуровано в актовых папках, что это отечество представлено в лице государственных чиновников, которые так умеют вытравить тоску по родине, что от нее не останется и следа. Где моя родина? Там, где я нахожусь и где мне никто не мешает, где никто не знает, кто я и что я делаю, откуда я пришел и куда уйду – да, только там моя настоящая родина, мое настоящее отечество.
Курт устроился на испанский корабль и в конце концов поступил угольщиком на «Иорикку».
Предохранительных приспособлений на «Иорикке» не существовало. Во-первых, они стоили денег, а во-вторых, они мешали работе. Корабль смерти – не детские ясли. Держи ухо востро, а если зазеваешься, то тоже не велика беда. В крайнем случае у тебя будет один гнилой палец или подслеповатый глаз, которые и без того ни к черту не годятся.
Водомерное стекло у котлов не было защищено предохранителем. И вот однажды, когда Курт был на вахте, оно лопнуло. Так как у водомерного стекла не было рычага, которым можно было бы отвести трубу, ведущую к водомеру, то кипящая вода брызнула фонтаном, и котельное помещение наполнилось густым, горячим паром.
Трубу надо было отвести во что бы то ни стало, но регулирующий клапан лежал как раз под разбитым водомером, в двух вершках от кипящей струи. Пар надо было затормозить, иначе коробка застряла бы на целый день, а в случае шторма не могла бы маневрировать и была бы разбита в щепки.
Кто должен тормозить? Угольщик, конечно. Бродяга рисковал своей жизнью, чтобы спасти «Иорикку» и пустить ее ко дну только тогда, когда это прикажут.
И Курт затормозил. Потом упал, как подкошенный. Инженер и кочегар отнесли его на койку.
– Такого крика, – рассказывал Станислав, – ты не можешь себе представить. Он не мог лежать ни на спине, ни на животе, ни на боках. Кожа свисала с него клочьями, как изорванная рубашка, вся в пузырях, размером с голову, и один возле другого. Если бы его поместили в больницу, его, пожалуй, еще можно было бы спасти, наложив на раны телячью кожу, но для этого понадобилась бы целая телячья кожа. Боже мой, как он кричал, как он кричал! Я желал бы консулу услышать во сне этот крик. Он во всю свою жизнь не мог бы от него избавиться. Они сидят у стола и заполняют формуляры. Сто миль от фронта настоящей жизни.