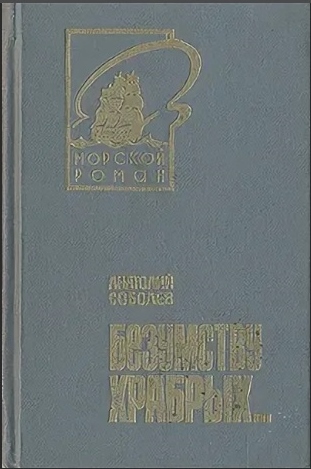с ног, разливается по телу, парализует волю, усыпляет.
— Ген, ты не спи. Слышь, спать нельзя — загнемся.
— Не сплю, — доносило полухрип-полустон, глухо, как из могилы.
Виктор заставлял себя подниматься, прыгал, приседал, хлопал руками по одеревенелым бокам. Ветер, прошитый колючим снегом, бил наотмашь по лицу, валил с ног. Буран гудел, все больше и больше набирая злую силу. Виктор поднимал немца, и они боролись, стараясь разогреться. Виктор чувствовал в чужих руках враждебность, чувствовал, что немец сильнее, и это пугало. Немного разогнав кровь и отглотнув из фляжки, они падали рядом с Генкой, прижимались к нему.
Сейчас бы костер, капельку огня, глоток горячей воды!
Долгим, нескончаемым кошмаром тянулась пурга. Время замерло над ними, оставив их лицом к лицу с разбушевавшейся стихией, наглухо замкнув в ледовом хаосе.
Когда кончилась вьюга, они не узнали тундру. Снежная пустыня простиралась перед ними. Пасмурное небо набухло свинцовой тяжестью и высевало хрусткую колкую изморозь.
Виктор встал, с трудом распрямил закоченевшее тело. Отгреб засыпанного снегом Генку.
— Жив?
Генка медленно поднял синие веки, равнодушно и как бы из далека поглядел на друга.
— На, хлебни. — Виктор подал фляжку.
Генка слабо повел головой и закрыл глаза. У него, как у покойника, заострилось обескровленное лицо. Виктор испугался: «Умрет!»
— Слышь, Ген, хлебни! — затряс он друга. — На! Хлебни!
Поднес фляжку к почерневшим Генкиным губам, насильно влил глоток.
— На еще!
Генка глотнул еще. Виктор начал растирать ему руки снегом.
— Во-от, — нараспев говорил Виктор. — Во-от, сейчас…
А что «вот», что «сейчас», и сам не знал.
Генка медленно оживал.
— А как он? — повел глазами Генка.
Только теперь Виктор вспомнил о немце.
— Вставай! — приказал Виктор. — Ауфштейн!
Немец попытался встать, но упал.
Синие, как и у Генки, веки его были закрыты, черная щетина клочьями торчала на провалившихся щеках.
— О-о, майн гот! — выдохнул облачко пара немец.
— «Майн гот, майн гот»! — озлился Виктор. — Хоть бы ты сдох!
— Дай ему выпить, — донесся шепот Генки.
— Айн глоток только. — Виктор подал немцу флягу и показал один палец. — Айн! Ферштеен?
Немец протянул скрюченные пальцы и не мог взять фляжку. Застонал.
— Ну, навязался ты на нашу голову! — процедил сквозь зубы Виктор. — Давай руки! Хенде давай! Гебен хенде.
Немец протянул руки, и Виктор стал яростно растирать их снегом. Немец стонал, морщился, по провалившимся щекам текли мутные слезы.
— О-о! О майн гот, майн гот, — повторял он хрипло. И обреченным взглядом скользил по безжизненным снегам.
— На! Пей! — снова подал фляжку Виктор. — Айн глоток. Да поменьше глотай.
— Яволь, — прохрипел немец.
Закоченевшими пальцами немец взял фляжку, судорожно глотнул и умоляюще уставился на Виктора. Виктор смотрел на осунувшееся черное лицо пленного, на острый, в щетине кадык, на порванные ветром, кровоточащие губы, и непрошеная жалость шевельнулась в груди.
— Еще айн. — Виктор рассердился на свою слабость. — Нох айн! — крикнул он на замешкавшегося немца. Немец торопливо отглотнул еще.
— Данке шён! — прохрипел благодарно.
— Вставай, вставай! Ауфштейн!
Немец с трудом поднялся.
Одежда на нем, пока он вставал, скрипела. На Викторе и Генке была такая же. Пальцы у Виктора совсем закоченели. Он дышал на них, совал в рот — не помогало. Сообразил сунуть их себе в штаны, между ног. И держал там, пока их не начало покалывать, пока не вернулась к ним способность шевелиться.
— Берись! — приказал Виктор. — Ком!
Немец взялся за ремень, и они потащили. Снег лежал сырой, рыхлый. Волокуша проваливалась, тащить было тяжело. Глоток шнапса согрел, разогнал кровь, но в животе по-прежнему резало от голода. Чувство сытости, временно наступившее после глотка спиртного, прошло, и есть захотелось пуще прежнего, но в кармане лежала только одна, последняя галета, которую Виктор берег для Генки.
Солнце в разрыве хмари осветило снег, но он не заискрился, не засиял, а матово налился молочным светом, набряк влагой, и идти стало еще труднее. Вместо зелени и удивительных полярных цветов, что буйно цвели вчера под арктическим солнцем, теперь была сплошная белая скатерть, кое-где расшитая торчащими из-под снега головками красных северных маков.
Немец что-то сказал, показывая рукой в сторону. Виктор пригляделся. Серый зверек хищно подкрадывался к чему-то. Виктор не сразу узнал песца, наполовину сбросившего роскошный зимний наряд. «Куда он крадется?» — и тут же увидел, что из-под снега торчит птичья голова на длинной шее. Он сорвал автомат с груди и торопливо прицелился. От пуль фонтанчиками взвихрился снег, песец сделал виртуозный прыжок в сторону и, проваливаясь в мокром снегу, улепетывал во все лопатки прочь.
Тяжело хлопая крыльями, на бреющем полете улетала и гусыня. Виктор выпустил очередь вдогонку, но промазал.
Немец вдруг кинулся в другую сторону, и у Виктора мелькнула мысль: «Сбежит!» — но тут же он понял, что немец бросился на второе гнездо. Оттуда с шумом и гоготаньем поднялась гусыня и стелющимся полетом тоже уходила все дальше и дальше, а Виктор, вскинув автомат, не мог стрелять: ему мешал немец.
— Да уйди ты к черту! Ложись! — заорал Виктор и, когда немец догадался и упал в снег, выпустил длинную очередь, но было уже поздно.
— Гад паршивый! — со слезами в голосе ругался Виктор. — Из-за тебя все, фашист проклятый!
Он подошел к гнезду, в котором лежало четыре еще теплых яйца, взял их в руки. Но яйца были насижены.
— Видишь! — чуть не плача, Виктор тыкал яйца немцу под нос. — На, жри! Фрессен!
Немец что-то извинительно лопотал.
— У-у!.. — бессильно мычал Виктор, чувствуя, что от голода еще невыносимее, еще ожесточеннее зарезало в животе.
Генка лежал закрыв глаза.
— Ген, как ты? — Виктор присел возле него.
Генкины веки медленно поднялись, но взгляд был пуст и отрешен. Остановившимися глазами Генка смотрел куда-то внутрь себя. Лицо его было страшно своей неподвижностью.
— Ген, Ген! — затряс друга за плечо Виктор.
Мутным, ускользающим взглядом Генка смотрел куда-то мимо. Сквозь сильную бледность явственно проступала синева возле губ и носа. И эта синева особенно пугала: Виктор где-то слышал, что так бывает у умирающих.
— Ты потерпи, Ген, потерпи. Немного осталось, — погладил Виктор друга по холодной щеке. С трудом, чувствуя боль в ногах, поднялся, зло сказал: — Ком!
Снег переливался на солнце, и это напомнило тот далекий ясный день, когда Виктор с отцом ездили на зайцев. В кошевке под собачьим тулупом ему было тепло и весело. Он вертел головой, оглядывая искрящуюся на солнце равнину, видел вдали бледно-голубые горы, и сердце замирало от счастья. Бодро пофыркивала лошадь и легко несла кошевку. Морозный воздух приятно холодил щеки.
Отец тогда убил двух русаков. Мать потушила одного с картошкой.
Десны обволокла голодная окись.