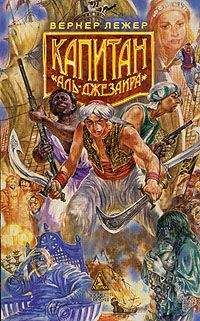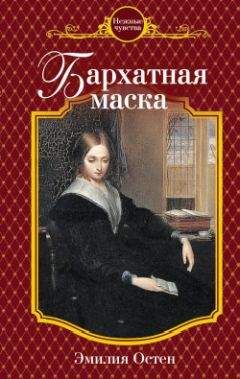Парвизи не ответил, и капитан поспешил перевести разговор на другую тему:
— Если ничего не помешает, завтра вечером будем в Малаге.
— Так скоро? Это меня радует. Однако я должен еще вам ответить. После выполнения ежедневных обязанностей любому человеку нужно как-то разнообразить свою жизнь, разрядиться, так сказать. Одни ищут и находят эту разрядку в разных забавах и развлечениях, другие — в общении с природой, третьи зарываются в книги. Я же беру бумагу и грифель, и я счастлив.
— И другим доставляете своим искусством большую радость.
По лицу Парвизи пробежала легкая тень.
— В общем — да, — сказал он. — Лишь однажды мой скромный талант стал причиной озлобления и раздора.
— Вы разбудили мое любопытство.
— И мое тоже, дорогой, — удивленно подняла глаза на мужа Рафаэла. — Мне с трудом верится, что талант к рисованию может вызвать чью-то злобу.
— И тем не менее такое со мной случилось. Было бы вам известно, капитан, что еще совсем ребенком я управлялся с грифелем куда лучше, чем мои товарищи по играм с собственной склонностью к болтовне. Одиннадцати лет я уже отлично рисовал зверей. И не просто рисовал, чтобы зритель сразу мог узнать, какого именно зверя я изобразил, но и вводил иной раз в свои рисунки нечто неожиданное.
Он потер ладонью лоб и продолжал:
— Был у меня тогда один друг, вместе с которым мы подолгу играли. Ну вы же знаете, детская дружба не обходится без ссор и раздоров. Только что ты был готов за друга в огонь и в воду, а в следующий миг все летит кувырком, и он тебе уже не друг, и все ваши приятельские отношения кажутся навеки разорванными. Кажутся — к счастью, только кажутся. А на другой день вы снова играете как ни в чем не бывало. Вот и мы с ним однажды поссорились. Из-за чего — не могу теперь вспомнить это, да это уже и не важно.
Помню только, что мой друг тогда очень на меня обиделся и обиду свою выразил самым нелепым образом. Я и сейчас могу нарисовать, как он, надувшись словно мышь на крупу, полный презрения ко мне, сидел в углу нашего двора. Его глупое поведение разозлило меня. Сколько я ни просил, сколько ни умолял его вернуться к нашим играм, ничего не помогало — он уперся как баран. Я немного постоял в растерянности, потом сунул поглубже руки в карманы, свистнул и поспешил покинуть арену трагедии. В карманах я нащупал листок бумаги и полустертый грифель. Эти предметы я постоянно носил с собой, как другие мальчики таскают в карманах веревочки, ножики, фруктовые косточки, разные камешки и всякую прочую дребедень. Когда мои пальцы ощутили бумагу и уголь, мне в голову пришла идея. Нарисую-ка я своего друга в теперешнем его состоянии! До сих пор сожалею, что я это сделал. Но он был маленький упрямец, а я полыхал гневом и яростью. «Ну и устрою же я тебе», — порешил я. Мой сотоварищ по играм сидел спокойно, как настоящая модель, словно и не замечая, чем я занят. Возможно, ему даже льстило, что я его рисую. Да, я нарисовал его, но не таким, каков он был в действительности, не долголетнего своего друга нарисовал, а некое тупо уставившееся перед собой пучеглазое, горбатенькое существо с ослиной головой и длинными ушами. Мало того, в усугубление своей глупости, я еще нарядил его в потрепанный разбойничий костюм. Мне хотелось, чтобы он понял, что он дурень и злюка. Конечно, рисуночек мой был не ахти какой мастерский, и выполнил я его с нарушением всех масштабов. Однако ослиная голова была в общем-то узнаваема, как при некоторой фантазии и разбойничий костюм. И все же работой своей я остался недоволен и, не зная, чем бы ему еще досадить, надписал по нижнему краю: «Это ты! Глупый, как осел, и злой, как разбойник». Надписал и швырнул ему бумагу. Упрямство его меж тем уже улетучилось, и моя душа смягчилась. Он улыбнулся, схватил листок и взглянул на рисунок. И вдруг он вскочил и набросился на меня, чтобы поколотить. Я ожидал этого: ведь потасовки у мальчиков — дело обычное, как летняя гроза. Но здесь-то, к сожалению, все пошло по-другому. Он сообразил, что я сильнее, и с рисунком в руке кинулся прочь, угрожая, что покажет его своему отцу и тот разделается со мной.
— И старый господин не замедлил вмешаться? — рассмеялся Чивоне.
— Конечно. Моему приятелю он запретил впредь играть со мной. Наша дружба разбилась вдребезги. Мы и теперь, встречаясь, не узнаем один другого.
— Но, Луиджи, почему же ты после-то не попытался объясниться со своим другом, рассказать ему о своем тогдашнем настроении и уладить все, как было?
— У меня завелись новые друзья, и, потом, я же нашел тебя, дорогая. Одно я твердо усвоил после этой истории: надо уметь владеть собой, не давать воли мимолетной горячности. Сказанное в сердцах обидное слово может многое напортить. Но оно отзвучит — и нет его. Совсем иное дело — слово написанное или рисунок. Они остаются, и ничем их не сотрешь. Да, так вот, синьор Чивоне. Глупая мальчишеская выходка аукается еще и сейчас. Мне даже и рассказывать-то об этом больно и стыдно. Постарайтесь побыстрее позабыть услышанное, дорогой капитан, очень буду вам признателен. Мне не хотелось бы, чтобы об этом пошли разговоры.
— Совершенно с вами согласен, синьор Парвизи.
Капитан чувствовал, как волнуется его молодой земляк, понимал, что обычной неспешной беседы теперь уже не получится, и потому счел за лучшее раскланяться.
— А твой рисунок и в самом деле — единственная причина вражды между… — Она слегка замялась, — Гравелли и нами?
Луиджи удивленно взглянул на нее, пожал плечами, но ничего не ответил.
И тут Рафаэла высказала мысль, возникшую у нее во время рассказа Луиджи:
— Не слишком-то это правдоподобно. Подумаешь — рисунок! Из-за такой малости на всю жизнь не ссорятся. Нет, то ли ты о чем-то умолчал — ведь капитан Чивоне чужой нам и вовсе ему об этом знать не обязательно, — то ли и самому тебе не все здесь известно. Впрочем, я так не думаю.
— Совершенно верно, Рафаэла. Ты дьявольски проницательная женщина. Мой детский рисунок действительно лишь расширил трещину между домами Парвизи и Гравелли до непреодолимых размеров. От тебя у меня тайн нет. Так что слушай. Ты права, капитану я рассказал не все, и это понятно. Он хоть и старинный доверенный друг моего отца, но о том, что в действительности произошло между Агостино Гравелли и нами, не знает и никогда не узнает, потому что оба недруга молчат. Один из порядочности, другой — из страха. Над ослиной головой только посмеялись бы, над разбойничьим костюмом, наверное, поменьше, но в общем-то, конечно, свели бы все к глупой мальчишеской выходке и позабыли об этом. Однако, к сожалению, незадолго до того случилось нечто, возымевшее, как оказалось, очень большое значение. Нам, Пьетро и мне, было тогда по одиннадцати лет, и мы оба ничего не знали о прошлых временах. Агостино Гравелли начал свою карьеру с профессии старьевщика. Он частенько заходил к нам, чтобы справиться, нет ли у нас какой-либо ненужной больше одежды. Ему отдавали всякие поношенные вещи, и он их потом продавал.