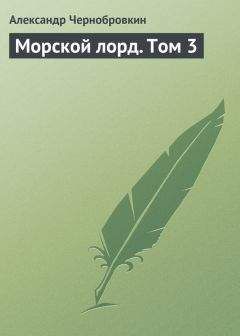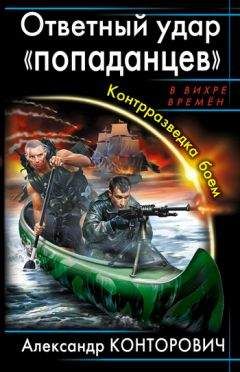Первым более-менее крупным городом на нашем пути оказался Сандомеж. Он размером с Путивль. Расположен на высоком и обрывистом левом берегу Вислы, рядом с местом впадения в нее реки Сан, от которой, наверное, и получил свое название. Стены и башни у Сандомежа деревянные, ниже, чем были у Люблина. Теперь на месте Люблина руины и пепелище. Каменные только Краковские ворота, расположенные с западной стороны. Обе реки были покрыты толстым льдом. Мы без проблем переправились через Вислу. Жителям города предложили сдаться, пообещав оставить живыми и свободными. Они не знают монгольских обычаев. Привыкли, что никто из благородных рыцарей обещание не сдерживает, поэтому отказались от выгодного в их положении предложения. Мало того, обстреляли парламентеров, чем поставили себя вне закона. Я, может быть, и пощадил бы их, но тысяцкие-монголы донесут, что я нарушил закон – не покарал нарушителей другого закона.
Мы начинаем осаду. Происходит это буднично. Пехотинцы занимают позиции вокруг города: одна тысяча с востока, вторая – с юга, третья – с запада, четвертая – с севера. Поскольку город имеет неправильную форму, тысячи тоже размещаются не совсем точно по частям света. На самом опасном юго-западном направлении располагаются тяжелая и средняя конница, тысячи Мончука и Бодуэна. Легкая конница, разбившись на сотни, рассыпается в разные стороны. Она ведет разведку, грабит деревни, снабжая нас провиантом, и сгоняет крестьян на осадные работы. Моему тумены был придан один требюшет и несколько катапульт. Китаец Ван (а может, и не Ван, но я так его называю) – пожилой худой мужчина с редкой бородкой клинышком на узком желтоватом лице, одетый в островерхую лисью шапку и засаленный овчинный тулуп поверх яркого синего шелкового халата, – разместил осадные орудия напротив южной и западной стен и начал свое дело. Пять сотен пленных поляков обслуживали нашу «артиллерию», еще столько же занялись изготовлением снежного вала вокруг города. Строить что-то более серьезное я не счел нужным. Город продержится самое большее три-четыре дня.
К концу второго дня обе стены разрушены настолько, что можно идти на приступ. Обломки бревен и земля, которой были заполнены срубы, составлявшие стены, скатились по склонам валов, напоминая подтеки грязи на снегу. Сандомежцы так измотаны круглосуточными атаками, что, наверное, уже не рады, что не сдались.
Я собрал, как обычно, командиров на обед. Поскольку на улице мороз около двадцати градусов, пьем подогретую медовуху. Так она лучше согревает, но приобретает непривычный привкус, который мне не нравится. Терплю, потому что мороз не нравится больше.
– На рассвете начнем штурм, – говорю я, обращаясь в первую очередь к командирам пехотных тысяч. – Если вас рано заметят, отступите, а потом гоните перед собой пленных поляков. Пусть их свои бьют.
Тысяцкие это и сами знают. Так поступают все армии. На войне жалость – дорога к гибели.
Я слышу топот копыт. Кто-то быстро скачет к моему шатру. Все сидящие за столом перестают жевать и пить и смотрят на полог, закрывающий вход. Так скакать может только гонец со срочным сообщением. Возле шатра конь останавливается, всадник спрыгивает на землю и бросает мой охране:
– Сообщение хану.
Кочевники разных национальностей называют меня ханом, оседлые – князем.
В шатер заходит половец с красным от мороза лицом и замершими зеленоватыми соплями на реденьких усах. Ноги у него колесом, ходит враскачку, как старый морской волк.
– Враг идет, оттуда, – показывает он в ту сторону, откуда прискакал, то есть на запад. – Меньше тумена, конные и пешие. Пеших больше.
– Далеко от нас? – спрашиваю я.
– Дневной переход, – отвечает гонец.
– Иди отдыхай, – отпускаю его. Когда половец выходит из шатра, говорю своим тысяцким: – Утром со мной пойдет вся конница. Пехота остается, штурмует город.
Я еще застаю начало штурма. В предутренних сумерках пехотинцы тихо подходят к проломам, застают сандомежцев врасплох. Начинается сеча, не очень упорная. Через пару часов город будет наш.
– Поехали, – говорю я и подгоняю шпорами коня.
Легкая и средняя кавалерия уже в пути. К ночи возле города собрались все отряды. Ночью они отдохнули, как сумели, потому что мороз усилился, а теперь греются – скачут впереди навстречу полякам. Второй гонец рассказал, что большую часть войска составляют ополченцы, вооруженные, чем попало. Не знаю, какой дурак и зачем ведет против нас толпу вооруженных крестьян?! Поляки не равнодушны к мании величия. Видимо, решили нас запросто косами покосить. Кстати, они считают себя потомками сарматов. Аланы – истинные потомки – относятся к подобным заявлением со снисходительной улыбкой.
Еще до полудня разведка докладывает мне, что поляки километрах в четырех-пяти от нас. Мы только выехали из леса к деревушке, расположенной на холме у реки. На другом берегу реки километра на два тянутся до леса поля, укрытые снегом. Холм закрывает нас от тех, кто выедет из леса на эти поля.
Я приказываю Никите и Амбагаю:
– Занимайте деревню, якобы грабите ее. Потом выезжайте навстречу полякам. Никита атакует слева, Амбагай – справа. Вытягивайте на нас конницу.
Амбагай самодовольно улыбается. Атака правым флангом у монголов считается главной. Приходится учитывать даже такие мелочи. Теперь он из шкуры вылезет, но заставит польских рыцарей гнать галопом коней по заснеженному полю, пока, вымотанные, на уставших лошадях, не окажутся перед нами, отдохнувшими. Потом рыцари будут говорить, как и русские после Калки, что сперва они побеждали, противник побежал, но подоспела помощь и… Не понимают, что, как лохи, повелись на дешевую уловку, покинули выгодную позицию и разделили свое войско, которое и было перебито по частям.
Остальные четыре тысячи выстраиваются для боя в пять шеренг: тысяча Бодуэна, как самая сильная, на правом фланге, две под командованием монголов – в центре и на левом, а сзади, в резерве, – гвардия. В первых двух шеренгах лучники. Они обстреляют врага и, если он продолжит атаку, отступят через оставленные для них проходы за спины копейщиков, которые довершат дело. Если враг начнет удирать, первыми погонятся за ним. По моей команде, конечно. Они стоят спокойно, тихо переговариваясь. Знают, что противника примерно столько же, что большую часть составляют крестьяне, поэтому не сомневаются в легкой победе. Жалуются только на мороз. Днем отпустило немного, но все равно градусов десять есть. Я определяю это по скрипу снега. Когда мороз приближается к отметке десять градусов, снег начинает скрипеть сухо, отчетливо.
Я замечаю, что тысячи Никиты и Амбагая спускаются с холма к реке, и поднимаюсь с небольшой свитой в деревню. Всего одна улица по обе стороны которой деревянные дома, крытые соломой, десятка два с половиной. Ничем не отличается от русских деревень. Двери в дома и сараи нараспашку, нет людей, не гавкают собаки и скот помалкивает. Здесь уже побывали мои воины, провели зачистку.