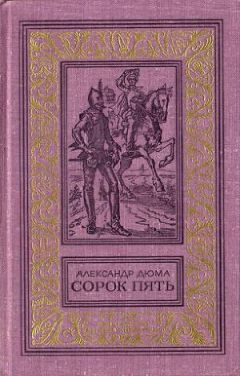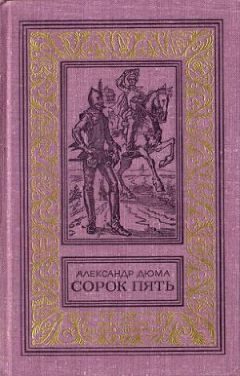Ли Бартон был всего лишь человек и втайне жестоко страдал, хотя на людях отношения его с Санни были самые дружеские. Даже Иде было невдомек, что он страдает, и она жила по-прежнему беззаботно и весело, ничего не подозревая и разве что слегка удивляясь количеству коктейлей, которые ее муж поглощал перед обедом.
Казалось, что он, как и прежде, открыт для нее весь, до последних глубин; на самом же деле он скрывал от нее свои муки, так же как и ту бухгалтерскую книгу, которую он мысленно вел, каждую минуту, днем и ночью, пытаясь подвести в ней итог. В одну колонку заносились несомненно искренние проявления ее обычной любви и заботы о нем, многочисленные случаи, когда она успокаивала его, спрашивала или слушалась его совета. В другую — где записи делались все чаще — собирались слова и поступки, которые он волей-неволей относил в разряд подозрительных. Искренни ли они? Или в них таится обман, пусть даже непреднамеренный? Третья колонка, самая длинная и самая важная с точки зрения человеческого сердца, содержала записи, прямо или косвенно касающиеся его жены и Санни Грэндисона. Ли Бартон вел эту бухгалтерию без всякого умысла. Он просто не мог иначе. Он с радостью бросил бы это занятие. Но ум его требовал порядка, и записи сами собой, помимо его воли, располагались каждая в своей колонке.
Все теперь представлялось ему в искаженном виде, он из каждой мухи делал слона, хотя часто сам сознавал, что перед ним муха. Наконец, он обратился к Мак-Илвейну, которому когда-то оказал весьма существенную услугу. Мак-Илвейн был начальником сыскной полиции. «Большую ли роль в жизни Санни Грэндисона играют женщины?» — спросил его Бартон. Мак-Илвейн ничего не ответил. «Значит, большую», — заключил Бартон. Начальник полиции опять промолчал.
Вскоре после этого Ли Бартон прочел секретную записку за подписью Мак-Илвейна и тут же уничтожил ее, как ядовитую гадину. Общий вывод был: Санни вел себя неплохо, но и не слишком хорошо после того, как десять лет назад у него погибла жена. Их брак был притчей во языцех в высшем обществе Гонолулу, так они были влюблены не только до свадьбы, но и после, вплоть до ее трагической гибели — она вместе с лошадью свалилась с тропы Нахику в бездонную пропасть. И еще долго после этого, утверждал Мак-Илвейн, женщины для Грэндисона словно не существовали. А потом если что и бывало, то все оставалось в рамках приличий. Никаких сплетен, никакой огласки, так что в обществе сложилось мнение, что он — однолюб и никогда больше не женится.
Что касается нескольких мимолетных связей, которые Мак-Илвейн перечислил в своем докладе, то, по его словам, Грэндисону и в голову не могло прийти, что о них известно кому-либо, кроме самих участников.
Бартон наскоро, словно стыдясь, проглядел короткий список имен и дат и успел искренне удивиться, прежде чем предать бумагу огню. Да, чего другого, а осторожности у Санни хватало. Глядя на пепел, Бартон задумался о том, много ли эпизодов из его собственной молодости хранится в архивах старика Мак-Илвейна. И вдруг почувствовал, что краснеет. Какой же он дурак! Раз Мак-Илвейну столько известно о частной жизни любого члена их общества, не ясно ли, что он сам, муж, защитник и покровитель Иды, дал Мак-Илвейну повод заподозрить ее?
— Ничего не случилось? — спросил он жену в тот же вечер, когда она кончала одеваться, а он стоял возле, держа наготове ее пальто.
Это вполне соответствовало их давнишнему уговору о взаимной откровенности, и в ожидании ее ответа он даже упрекал себя за то, что не спросил ее много раньше.
— Нет, — улыбнулась она. — Ничего особенного… Может быть, после…
Она загляделась на себя в зеркало, попудрила нос и снова смахнула пудру пуховкой. Потом добавила:
— Ты ведь знаешь меня, Ли. Мне нужно время, чтобы во всем разобраться… если есть, в чем разбираться; а после этого я тебе всегда все говорю. Только часто оказывается, что говорить-то не о чем, так что нечего тебя и беспокоить.
Она протянула назад руки, чтобы он подал ей пальто, — храбрые, умные руки, крепкие, как сталь, когда она борется с волнами, и в то же время такие чудесные женские руки, круглые, теплые, белые, — как и должны быть у женщины, — с тонкой, гладкой кожей, скрывающей отличные мускулы, покорные ее воле.
Он смотрел на нее с восхищением, с тоской и болью, — она казалась такой тоненькой, такой хрупкой, что сильный мужчина мог бы одной рукой переломить ее пополам.
— Едем скорее! — воскликнула она, заметив, что он не сразу накинул легкое пальто на ее прелестное, сверхлегкое платье. — Мы опоздаем. Если на Нууану польет дождь, придется поднимать верх, и мы не поспеем ко второму танцу.
Он решил непременно посмотреть, с кем она будет танцевать второй танец, и пошел следом за нею к двери, любуясь ее походкой, в которой, как он часто сам себе говорил, горделиво проявлялась вся ее сущность, и духовная и физическая.
— Ты не против того, что я так много играю в покер и оставляю тебя одну? — Это была новая уловка.
— Да бог с тобой! Ты же знаешь, я приветствую твои картежные оргии. Они тебя так подбадривают. И ты, когда играешь, делаешься такой симпатичный, такой солидный. Я уж не помню, когда ты засиживался за картами позже, чем до часу.
На улице Нууану дождь не полил, небо, начисто выметенное пассатом, было усеяно звездами. Они поспели ко второму танцу, и Ли Бартон увидел, как его жена пошла танцевать с Грэндисоном. В этом не было ничего удивительного, однако он не преминул отметить это в своей мысленной бухгалтерии.
Час спустя, терзаемый тоскливым беспокойством, он отказался от партии в бридж и, улизнув от нескольких молодых дам, вышел побродить по огромному саду. Вдоль дальнего края лужайки тянулась изгородь из ночного цереуса. Каждому цветку суждена была всего одна ночь жизни, — распустившись в сумерках, он к рассвету свернется и погибнет. Огромные — до фута в диаметре — чуть желтоватые цветы, похожие на восковые лилии, мерцая, словно маяки, во мраке, допьяна напоенном их ароматом, торопились насладиться своей прекрасной короткой жизнью.
Но на дорожке, бегущей вдоль изгороди, было людно. Гости парами гуляли здесь в перерывах между танцами, или во время танцев, и тихо переговаривались, жадно наблюдая это чудо — любовную жизнь цветов. С веранды, где расположился хор мальчиков, доносилась ласкающая мелодия «Ханалеи». Ли Бартону смутно вспомнился рассказ — кажется, Мопассана — про аббата, который свято верил, что все на свете сотворено богом для одному ему ведомых целей, но, затруднившись осмыслить с этой точки зрения ночь, понял в конце концов, что ночь создана для любви.
Оттого, что цветы и люди в один голос славили ночь, Бартону стало больно. Он повернул обратно к дому по дорожке, вьющейся в тени акаций и пальм. С того места, где она снова выходила из зарослей, он увидел в нескольких шагах от себя, на другой дорожке, мужчину и женщину, которые стояли в темноте обнявшись. Он обнаружил их, потому что услышал страстный шепот мужчины, но в ту же минуту и его заметили: шепот смолк, и пара замерла в полной неподвижности.