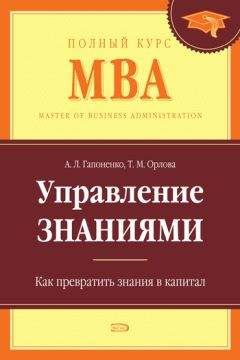Борис Климычев
Корона скифа (сборник)
Получив письмо из Гетеборга от тетушки Амалии, Улаф Страленберг был несколько удивлен. Род Страленбергов был древний и разветвленный, многие Страленберги даже и не были знакомы друг с другом, только одинаковая фамилия напоминала им о родстве. О тетушке Амалии до ее письма Улаф даже никогда и не слышал.
Улаф большую часть своей жизни провел за границей, он учился в Берлине, Париже и Лондоне. Он овладевал знаниями с великой страстью, так, что в свои тридцать восемь оставался холостяком. Сначала думал, что еще успеет жениться. Потом думал, что уже опоздал. И считал, что это — к лучшему, по крайней мере, ничто не мешает его ученым занятиям. Жаль только своих стариков, которые так мечтают о внуках. Но что же делать? У каждого — свой путь.
Незнакомая тетушка просила его приехать в Гетеборг. Она овдовела и почему-то считала, что он может ей помочь советом. Несколько заинтригованный, он прибыл в Гетеборг, нашел там, у знаменитого крепостного форта «Корона», древний дом в старинном центре города. Его встретила жеманная старушка, пропахшая духами и разными притираниями. Она подносила к глазам лорнет и восторженно восклицала:
— Так вот вы какой? О, да! Так и должен выглядеть настоящий ученый!
Улаф был совершенным альбиносом, с вьющимся волосом, зеленоватыми глазами, курносым носом и большим ртом. Высокий, длиннорукий. Он не был красивым, но женщинам нравился некоторой угловатостью своей, может, загадочностью еще и отрешенностью от мирских забав.
Тетушка оказалась тараторкой. За чаем она говорила взахлеб, рассказывала о покойном муже, предлагала Улафу посватать очень красивых гетеборгских невест. Говорила о том, что за Страленбергами быть замужем нелегко. Вот хотя бы ее покойный муж…
И, прикрыв рот ладонью, воскликнула:
— О, нет, нет! О мертвых — или хорошо, или ничего.
Потом она показывала Улафу дом, все от гостиной до старинных подвалов, где хранилось пиво, вино и съестное. Показала и несколько семейных портретов. Улафу они ничего не говорили. Он не знал никого из изображенных на портретах кавалеров и дам. Мысленно упрекнул себя за то, что мало интересовался до сих пор историей рода Страленбергов.
— Это вот Иоганн Филипп фон Страленберг! — показала тетушка на портрет могучего сурового мужчины в латах.
Брюнет смотрел на Улафа строго, очевидно, не желая признавать в нем родственника.
— Вы, конечно, знаете его историю? — спросила Амалия.
Улаф смущенно потупился, даже краска проступила на щеках. Он вообще часто и легко краснел, кожа его была белой и тонкой.
Он вспоминал всех знаменитых Страленбергов. Один был важной шишкой при дворе короля, другой был крупным торговцем, третий путешествовал в Африке и погиб там от загадочной болезни, четвертый был комендантом крепости Гетеборг.
— Как, вы ничего не слышали о Страленберге, который побывал в русском плену?! — изумилась Амалия.
— Так это он! — воскликнул Улаф, — слышал я о нем, конечно, слышал. Но… в общих чертах. Все-таки я изучал до сих пор древние цивилизации, исчезнувшие народы, ставил химические опыты, был всегда очень занят учебой и теперь мне так стыдно…
— Я понимаю вас, юноша, — сказала тетушка весьма взрослому племяннику и таким обращением ввергла его еще больше в краску. Ничего себе юноша! Хотя… в сравнении с этой надушенной и нарумяненной египетской мумией он, возможно, и кажется юным.
— Я понимаю вас, — продолжила речь Амалия, — но я расскажу вам об этом великом страдальце. Представляете? Провести несколько лет среди дикарей в ледяной пустыне…
Тетушка сбивчиво поведала историю Иоганна Филлипа фон Страленберга, который во времена Карла Двенадцатого и Петра Первого был пленен русскими. Вот как давно это было!
Потом она открыла резной ларец черного дерева, достала небольшую, размером с ладонь желтую пластину, изображавшую оленя, и подала Улафу:
— Взгляните. Это тоже осталось мне от покойного мужа, эта вещица. Эту штуку вывез легендарный Иоганн Филипп из Сибири. Муж говорил, что она со времен Иоганна Филиппа передается из поколения в поколение.
Я носила ее к ювелиру и потом к антиквару, чтобы оценить, но тот и другой сказали, что ей грош цена. Они, возможно, не понимают. Я обращаюсь к вам как к ученому. Вы же ботаник, историк и химик. Поразительно, как один человек сумел вместить в свой мозг столько серьезных наук! Так вот, говорят, Иоганн Филипп копался в Сибири в древних курганах. Эта вещица, может, создана в доисторические времена. Если это так, то я сдам эту древность в музеум и получу приличные деньги…
Улаф осмотрел пластину. Она была грубой работы, но не имела исторической ценности. Сделали ее не в древности, а всего лет сто назад. Бронза не отшлифована, олень получился аляповатый. Возможно, что Иоганн Филипп очень скучал в плену, решил заняться художественным литьем, да не обнаружил особых способностей. А пластину захватил просто на память о своем пребывании в Сибири. Так Улаф тетушке и сказал.
Амалия пожала плечами:
— Стоило тащить ее такую даль. Непрактичный, видно, был человек. От него осталась еще бумаги. Муж мне читал. Бред какой-то. Якобы в Сибири Иоганн Филипп оставил золотой клад. Но отрыть его можно только через сто тридцать лет. А раньше даже и пытаться не стоит. Духи там какие-то грозят. Я так думаю, что у этого бедняги пленного от пережитых страданий помутился разум. И он писал это свое обращение к потомкам, будучи с ущербным умом…
Я спрятала эти бумаги от своих двоих сыновей. Они, слава богу, обучились искусству судовождения. Они теперь водят корабли вокруг Европы в Африку, хорошо зарабатывают, имеют дома и семьи. Увы, женились они на сестрах-француженках, дома у них — в Марселе. Я езжу туда, вожусь с внуками, но в моем возрасте частая смена климата уже вредна. Их же теперь оттуда не выкорчевать… Это пересаженные в другую почву деревца.
Амалия достала кружевной платочек и отерла глаза.
Потом открыла другой ларец и вынула оттуда шелковую суму, в которой хранились пожелтевшие манускрипты.
— Вот эти бумаги, милый племянник, они уже почти истлели, их даже невозможно прочитать, я все хотела их выбросить, но как-то случайно прочла о вас в газете. Швеция гордится вами… Возьмите бумаги, может, извлечете из них какой-нибудь прок как историк… Да! Пластину возьмите тоже. На что мне она, если ее даже продать нельзя? И это не такая вещица, которой можно любоваться.
Амалия оглянулась на портрет Иоганна Филлипа, лукаво изобразила испуг и рассмеялась:
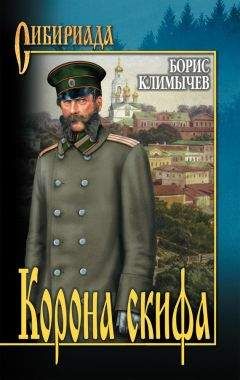

![Борис Климычев - Сибирский кавалер [сборник]](https://cdn.my-library.info/books/8593/8593.jpg)