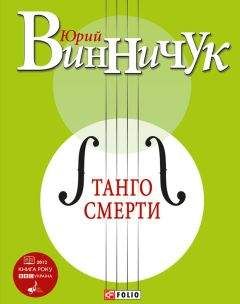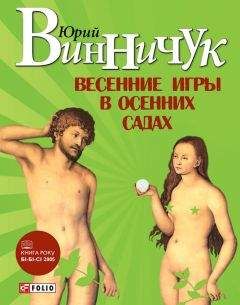Юрий Винничук
Танго смерти
Посвящаю Евгению Наконечному (1931–2006) – автору книг «Украдене ім’я» и «Шоа у Львові», доброму духу Научной библиотеки имени В. Стефаника, который много раз настоятельно, но деликатно подводил меня к этой теме, предлагая различную литературу и делясь личными воспоминаниями.
Там наверху падает снег, каркают вороны, трещат от мороза деревья, а где-то далеко поскрипывает снег под сапогами убийц. Их приближение чувствуется во всем – вот откуда-то издалека доносится угрожающий собачий лай, не похожий на лай деревенских псов, лай нарастает, нарастает, а вороны с громким карканьем взвиваются вверх и разлетаются. Четверо молодых мужчин сидят в схроне, прислушиваются к лаю, потом, обменявшись взглядами, сжигают какие-то бумаги, из продушины ползет дым. Затем они переодеваются в чистые рубахи и молятся. Молятся не вместе, а каждый сам по себе, и молитвы их на разных языках. Трое усаживаются вокруг маленького дощатого столика, на его темной гладкой столешнице лежит связка гранат, руки всех троих укладываются рядом. Они молча ждут. В их глазах нет страха. Каждый думает о своем.
Четвертый берет в руки скрипку, становится возле них и прислушивается. Собачий лай раздается уже над головой, огонь в укрытии догорает, искорки пробегают по сожженным документам и тают. А сверху уже доносится топот и требование сдаться. Мужчины не реагируют, их взгляды прикованы к гранатам. Они вздрагивают лишь тогда, когда слышат исполненные отчаяния женские голоса, взывающие к ним, заклинающие их, умоляющие. Голоса эти выжимают слезы из их глаз, но они не будут сдаваться, они хорошо знают, что их ждет.
Рука со смычком касается скрипки, и звучит мелодия танго. Теперь лаю собак и голосам людей приходится прорываться через эту мелодию, да и не только через мелодию, еще и через пение – четверо мужчин поют что-то тихо-тихо. А потом рука одного из них тянется к связке гранат…
В молодости все мы – никто, даже величайшие гении, чьи карьера и признание еще впереди, приходят в этот мир не слишком приспособленными к жизни, поэтому и не удивительно, что, женившись, мы подвергаем себя серьезным испытаниям, которые редко имеют счастливый конец и зачастую заканчиваются разводом. Именно в такую ловушку и угодил молодой Мирко Ярош, женившись после окончания университета на теплой и сладкой Роме. Он читал ей стихи замечательных поэтов, а она делала вид, что слушает, даже глаза прикрывала и выпячивала губы, а лицо ее становилось настолько одухотворенным, что он все больше и больше влюблялся в нее, полагая, что именно она создана для того, чтобы завороженно выслушивать все, что он выскажет, всю ту уйму слов, в которые он был влюблен и в которых увязал, как в тине, жадно заглатывая воздух, а когда во время таких чтений она прижималась к нему и горячим дыханием щекотала ухо, он думал, что идиллия эта будет вечной и оба просто таки обречены на то, чтобы сочетаться браком. Чувства побеждали здравый смысл, а потом, поженившись, они поселились у Роминых родителей, и это стало началом конца.
Два года работы учителем, а позже заочное обучение в аспирантуре не предвещали ничего радостного, потому что денег как не было прежде, так не было и теперь, а родители Ромы не отказывали себе в удовольствии лишний раз напомнить о том, что молодые сидят у них на шее. Вечером, убаюкав маленького сына, Ярош обкладывался на кухне книгами и писал диссертацию о литературе Египта, Вавилона, Ассирии, Шумера, Арканума и Хеттского царства, но чем больше он погружался в тему и обнаруживал очередные источники, тем безнадежней казался ему этот труд, потому что одни источники порождали другие, а те – третьи, и так без конца, заставляя его блуждать в лабиринтах версий и делать выводы зачастую на ощупь, ведь все, кто занимался этой темой, имели дело не с полной панорамой литературной жизни тех времен, а только с обрывками, которые чудом до нас дошли, чудом были расшифрованы и прочитаны, да и то не все, потому что арканумского языка так никто и не осилил, а о его литературе судили по хеттским и хурритским источникам. И вот эта последняя проблема вскоре увлекла Яроша так, что он отложил в сторону все остальное и взялся за расшифровку арканумских текстов, до него это пытались сделать немало ученых, но им ничего не удалось, арканумская клинопись не была похожа ни на какую другую.
Имея возможность заниматься научной работой лишь урывками, Ярош стал серьезно задумываться над смыслом своего семейного быта. Тупая рутинная работа в школе угнетала и изнуряла его, он сам себе удивлялся, как так случилось, что он стал учителем, испытывая ненависть к этой профессии еще со школьной скамьи. Приходил домой усталый, и единственное, что могло стимулировать его к научной работе, – это вино. Первый бокал снимал дневное напряжение, второй – высвобождал мысли, срывал с них все путы, и тогда перо его начинало летать по бумаге, как безумное. Правда, длилось это часа два, не больше, потом усталость одолевала его, и он укладывался спать с головой, полной древних иероглифов, глиняных табличек и папирусов, ко всему этому добавлялось абсолютное неуважение и жены, и ее родителей к его научной работе, они считали то, чем он занимается, бессмыслицей, пустой тратой времени, ведь он никогда не завершит научной работы, а потому суждено ему век вековать скромным школьным учителем. Уже стало неким непременным ритуалом отрывать его от работы и отправлять в магазин за хлебом, вынести мусор, набрать воды в привозной цистерне, когда отключали водопровод, будить его на рассвете, чтобы он бежал занимать очередь за молоком, за колбасой, творогом, сахаром или мукой – неважно за чем, за всем этим должен был бегать только он, когда в 1980-х годах дефицитом становилось все и люди превращались в охотников за товаром, рыская по городу и занимая по нескольку очередей одновременно, чтобы в каждой из них успеть купить по килограмму сахара или по пачке стирального порошка, потому что больше в одни руки не давали, а еще он должен был караулить книжные магазины, куда раз в неделю завозили новые книги, информацию об этом получал лишь ограниченный круг людей, и уже за час до того, как откроется книжный магазин после «приема товара», нужно было занять очередь и затем ворваться во главе толпы и первому ухватить Кафку, Камю, Акутагаву, Кортасара, Маркеса, Борхеса и – несть им числа… Ярош ради этой святой цели даже завел платонический роман с одной продавщицей, на что-то большее он не мог бы решиться, потому что она относилась к тем перезрелым девицам, которые вследствие прожитых в одиночестве лет становятся в быту невыносимыми, капризными и занудными. Пригласив ее на чашку кофе, Ярош вынужден был выслушать ее жизненное кредо, весь тот ворох хитроумных условностей, которыми она обложила себя со всех сторон, как сигнальными флажками, наконец, таким сигнальным флажком был и весь ее гардероб, призванный скрывать все выпуклости ее тела, как у монахини, потому что она ждала «серьезных отношений», «флирт ее не интересовал», но «пан Мирко очень приятный человек», «ему можно доверять», «мне иногда кажется, что мы знакомы очень давно» – и улыбка, многообещающая и подающая надежду, еще один флажок, замелькавший на горизонте, правда, с красноречивым предостережением: «Никому, никому, никому – лишь ему одному». Ярош смотрел на ее белоснежные руки, покрытые тоненькими рыжими волосками, и представлял себе ее ноги, видимо, такие же волосатые, и это даже вызывало у него желание исследовать этот еще никем не изученный континент со всеми его скрытыми закутками, но от исследования спасало лишь то, что было слишком мало свободного времени, да и простого приглашения на чашку кофе было вполне достаточно, чтобы поддерживать дружеские отношения и добывать информацию о поступлении новых книг.