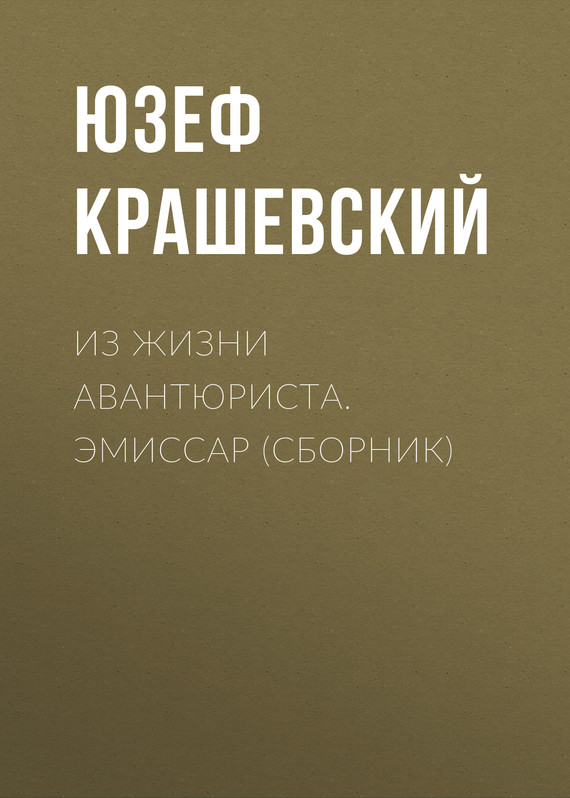достаточно, – закончил ксендз Еремей, – ошибаешься, пане президент. Глаза сына читают в душе матери, но глаза капеллана в минуты смерти видят глубину души человека и не ошибаются и ошибиться не могут. Довольно этого…
Он замолчал, как бы желая в уставшую грудь набрать немного воздуха.
– Уважайте память и волю родителей, – добавил он, – остальное оставьте Богу.
Он закрыл глаза – и от утомления положил голову на кресло, давая рукою знак президенту, чтобы ушёл.
Президент со стиснутыми устами, явно гневный, с нахмуренными бровями, встал, выпрямился, приблизился к руке ксендза, желая её поцеловать, но прелат живо её убрал… склонил голову и закрыл глаза. Гость с гневным лицом отвернулся и тихо вышел из покоя.
По его уходу ксендз Еремей вышел из апатии, которая казалась его нормальным состоянием, живо задвигался на кресле и нетерпеливо начал искать звонок, всегда стоящий под рукой. Наконец найдя его, с конвульсивной резкостью он зазвонил, пока, наконец, Павел, который вышел на галерею от двора, услышав звонок, тут же не вбежал встревоженный. Он посмотрел на прелата, на лице которого выступил необычный румянец и, заламывая руки, подбежал к нему.
– Что такое? Что с вами?
Ксендз Еремей упал на кресло, бессильный, и сразу отвечать не мог. Спустя некоторое время, словно сам себе, он невыразительно начал:
– Скоро девяносто! Да! Нечего ждать. Последний час может прийти… как злодей. Грех бы был… да…
– Что с вами? – добивался Павел.
– Но ничего, ничего, – приходя в себя, воскликнул ксендз Еремей. – Куда же ты подевался?
Слуга молчал.
– Слушай, иди… сейчас, сейчас приведи ко мне…
Тут он надолго остановился, не был, видно, уверенным, кого требовал, или фамилия вышла из его памяти. Уста задвигались и рука, казалось, противоречит тому, что они хотели поведать.
– Попроси ко мне… попроси.
– Кого? – спросил Павел.
– Кого? Кого? Проси… какого-нибудь достойного, честнейшего человека… доброго… проси ко мне такого, который бы не предал.
Павел поглядел на своего пана. Эти слова прелат явно выговорил уже не из-за отсутствия памяти или ума, но хотел, видно, сдаться как бы слепой судьбе, здравому уму Павла, через который бы говорил ему голос общества, не желая сам делать выбора.
– Самого достойного, – повторил слуга, – это, пожалуй, ксендз Стружка.
Наступило долгое молчание – прелат задумался.
– Да, он самый достойный, но самый слабый из людей, – добавил он быстро. – Попроси, стало быть, ксендза Стружку.
– Сейчас? Сейчас ли?
– Немедленно, – сказал прелат дрожащим голосом. – Кто же знает, я сегодня ещё после этого волнения могу умереть… Иди… проси его.
Павел закрутился и выбежал из комнаты.
Ксендз-каноник Стружка жил в том же доме, который давал приют нескольким духовным. Его квартира была внизу. На добрых десять с лишним лет младше ксендза Еремея, был это старый его приятель и самый заботливый опекун. Но имел только сердце, созданное, чтобы быть опекуном, впрочем, менее практичного человека свет не видел. Жил весь в идеальных сферах, в книжках и делах милосердия… сам, однако же, нуждался в надзоре, чтобы каждый час не стоять в какой-то коллизии с тем, что его окружало. Отвлечённый до наивысшей степени, живой, горячка, он шёл за побуждениями самого прекрасного сердца и, идя, падал, бедолага, на дорогах, толкался, страдал, сносил ложь, смеялся над собственным страданием и ошибками, а на следующий день им подвергался. Уже сама внешность ксендза Стружки объявляла эксцентрика. Одежду носил в наивысшей степени небрежную и совсем неизящную, редко когда имел полное облачение, а волосы причёсанные, почти всегда были дырявые ботинки. Бедняки, безжалостно его обманывающие, забирали его последние деньги, он давал в займы на все стороны, продавал, что имел, и ни одного бедняка от двери не оттолкнул. Немилосердно его использовали – он смеялся над этим.
Простодушный и легковерный, он всегда давал себя обманывать, потому что никогда не хотел допустить лжи в человеке.
Всякая прекрасная, возвышенная идея запаляла его и уносила так, что часто не видя её отрицательных или утопических сторон, загонял себя слишком далеко. Более благородной души найти было трудно – но менее созданной для осуществления запутанной задачи.
Павел с великим скрипом вбежал вниз к ксендзу Стружки, который, как раз окружённый разбросанными по всей своей убогой избе книжками, работал с великим запалом над каким-то трактатом возобновлённых языческих ошибок. Он был так погружён в поиск и мысли, что не слышал ни скрипа двери, ни громкого Laudetur, которым его Павел приветствовал. Слуга прелата должен был потянуть его за рукав. Это его испугало. Взглянув на лицо Павла, он крикнул:
– Что случилось?
– Ничего ещё, слава Богу, не случилось, – отпарировал Павел, – но ксендз-прелат очень, очень срочно просит к себе…
– Болен?
– Нет, но чем-то раздражён.
Перескакивая через книги, разложенные на полу, ксендз
Стружка сорвался тут же бежать. На пороге припомнил о необходимом уже в эти минуты носовом платке, за которым должен был бегать, ища его и разбрасывая всё, потому что он был прижат под каким-то большим фолиантом. Наконец они вышли и Павел сам уже закрыл дверь, потому что хозяин об этом не подумал. В течении этого времени прелат немного остыл, сидел более спокойный, но всё же ещё оживлённый и уже совсем разбуженный от своей дремоты.
– Что же случилось? Что за счастье, – воскликнул с порога входящий, – что я мог понадобиться ксендзу-прелату?
– Садись-ка, садись, успокойся, – ответил больной старец, – дело действительно очень большой важности, но ты, мой ксендз-каноник, что больше общаешься с ангелами, чем с людьми, вроде бы можешь быть в том полезен. Всегда, по крайней мере, сможешь посоветовать.
Ксендз Стружка придвинулся с креслом.
– Я должен говорить медленно, – продолжал далее прелат, – мне не хватает дыхания, но постепенно всё расскажу тебе. Дай мне совет. Я бы положился на твоё сердце, на голову не могу. Ты святой человек, а тут человеческий горшок слепить нужно… а не святые горшки лепят…
Он вздохнул.
– Только слушай. Я старый, больной, чувствую, что в любую минуту может прийти освобождение… пробьёт последний час. Не хочу с собой уносить на тот свет бремени не исполненного долга.
В особенных обстоятельствах некая умирающая особа доверила мне весьма деликатное дело. Я не мог исполнить её воли… а, наверное, сам уже не справлюсь. С людьми я порвал, знаю их не много, выбора сделать не сумею, а долг мой на кого-нибудь достойного, не рассеянного, как ты, более холодного, чем ты, я должен сдать.
Ксендз Стружка задумался.
– Это правда, – сказал он, – что, если, кроме честности, нужно чего-то больше, например ловкости, терпения, сдержанности – я их не имею. Я неисправимый горячка, хоть каждый день прошу Господа Бога, чтобы мне помог вылечиться от этой болезни. Отторгнутая природа возвращается…
Прелат слегка рассмеялся.
– А ты старый, – добавил он.
– А постареть к лучшему не могу, – отозвался ксендз Стружка, – всё более легкомысленное из меня вымелось…
– Боже мой, а если бы ни эта твоя горячка, никому