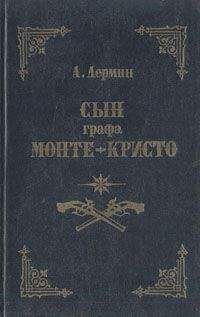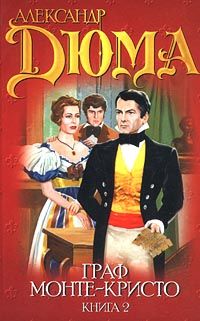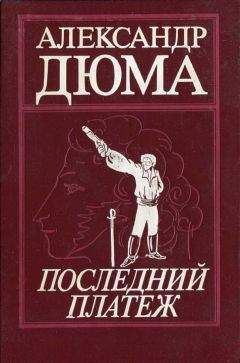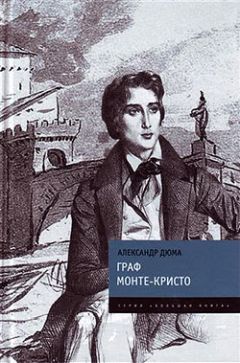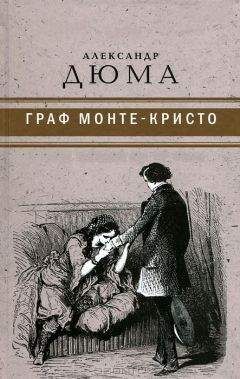Бошан шепнул на ухо Шато-Рено:
— Честное слово, Вильфор сумасшедший!
— А заметили вы, что с мадам Данглар сделалось дурно? — тихо спросил его Шато-Рено.
— Ну что ж, Бенедетто красивый малый, а мадам Данглар никогда не была образцом добродетели. Кто их знает, кем они приходятся друг другу?
— Может быть, Дебрэ знает что-нибудь… он… ш-ш-ш! Председатель просит слова, я готов побиться об заклад, что его речь будет гораздо глупее речи помешанного де Вильфора!
Страсть к противоречиям присуща человеческой натуре: с момента, когда Вильфор потребовал смертного приговора своему сыну, все присутствующие начали находить, что Бенедетто заслуживает более снисходительного приговора. Речь председателя суда вполне оправдала предположение Шато-Рено, и задача адвоката Бенедетто оказалась проще, чем он предполагал вначале.
Он нарисовал полнейшую заброшенность подсудимого, никогда не знавшего ни отца, ни матери, и так как Бертуччио, способный доказать обратное, не присутствовал на заседании, то слова защитника были приняты с полным доверием.
— Господа присяжные,— заключил адвокат свою молниеносную речь,— зерно Господней благодати, запавшее в сердце подсудимого во время его заключения, пустило корни: чистые, даже больше — возвышенные чувства заменили прежние порочные наклонности, и фальшивомонетчик и убийца снова достоин звания «человек» — звания, которое он опозорил и покрыл грязью не по своей вине! Бог, сотворивший это чудесное превращение, хочет не смерти грешника, но его обращения на путь истинный, путь праведный; может ли людской суд карать раскаявшегося? Нет, господа присяжные, вы не можете допустить этого!
Рыдания раздались в зале, публика была тронута, и защитник сумел воспользоваться этим умилением. Яркими штрихами изобразил он будущность возвращенного обществу исправившегося преступника, неустанно старающегося заслужить и оправдать доверие и милость к нему суда, и Бенедетто упал на колени, заливаясь горячими слезами и лепеча:
— Боже, Боже! Неужели я удостоюсь такого счастья?
Когда присяжные удалились в совещательную комнату, глаза всех присутствующих были полны слез — все тревожно ожидали приговора. Через четверть часа присяжные вынеси свой вердикт: виновен, но заслуживает снисхождения!
Бенедетто был снова введен в залу, и председатель, прежде чем объявить ему приговор присяжных, предложил подсудимому обычный вопрос, не хочет ли он сделать заявление.
Бенедетто глубоко поклонился и тихим взволнованным голосом проговорил:
— Не имею ничего сказать, господа, кроме того, что я искренне благодарен за все.
— Суд приговорил подсудимого Андреа Кавальканти, также Бенедетто, к пожизненной каторжной работе! — объявил председатель громким голосом, и в зале послышался ропот неудовольствия: все, очевидно, ожидали более снисходительного приговора.
Бенедетто же наоборот улыбнулся с выражением благодарности и облокотился о перила, как бы для того, чтобы бросить последний взгляд на собрание. Внимательный наблюдатель мог заметить, однако, что он глазами искал кого-то, и радость блеснула в его взоре: спутник мадам Данглар протиснулся вперед и, поздравляя защитника с успехом, нашел возможность шепнуть корсиканцу:
— Мы сдержали слово!
— Но каторга, галеры…
— Терпение, одно только терпение.
— А клятва спасти меня?
— Твоя жизнь спасена покуда, чего же ты хочешь еще?
Если Бенедетто и был недоволен, то все-таки не имел возможности выразить это словами, так как подошедший сзади жандарм грубо оттолкнул его. Корсиканец вспыхнул, но сдержался и покорно сказал:
— Я иду, господа!
— Иди, иди,— проворчал жандарм, надевая ему наручники, и Бенедетто, спускаясь по лестнице в окружении солдат, понял из их разговора, что завтра он будет отправлен в Бикатр — первую станцию осужденных на галеры. Тогда ему в голову пришла отчаянная мысль — попытаться бежать. Но узкая лестница и грозно поднятые штыки ружей сопровождавших его солдат показали все безумие подобной попытки и, покорившись судьбе, он имел довольно времени подумать о своем прошлом в течение долгого, скучного, утомительного переезда.
Чего удивительного в том, что Бенедетто считал себя несчастным. Конечно, жизнь была спасена, но одного этого казалось недостаточным, тем более после того, как он назывался графом Кавальканти и был женихом прекрасной и богатой девушки.
С какой яростью вспоминал он о письме аббата Бузони, пославшего его в Париж. Он отправился в почтовой карете по указанному маршруту и, прибыв в столицу, отыскал графа Монте-Кристо. Там бн встретил достойного Бартоломео Кавальканти из Лукки, который прижал его к сердцу, как своего сына. Бенедетто скрежетал зубами, думая о той минуте: он был лишь марионеткой в чужих руках, послушным орудием чужой воли. Потом подвернулся Кадрусс, и он поднял на него кинжал и тем довел себя до настоящего отчаянного положения. Теперь, припоминая различные эпизоды, он думал, что непроницаемый и таинственный граф Монте-Кристо намеренно толкнул его на путь преступления; конечно, было безрассудно убивать Кадрусса; но почему это убийство, освободившее мир от негодяя, погубило его самого? Граф купил дом в Отейле, где родился Бенедетто, и в достопамятный вечер, когда молодой Кавальканти с отцом впервые увидели де Вильфора, речь шла о невинном ребенке, ставшем жертвой преступления! Граф Монте-Кристо являлся подобно ангелу мщения, жестоко наказывая виновных и тратя свои миллионы для отыскания все новых доказательств…
Размышления Бенедетто были прерваны остановкой повозки у предпоследней станции, и суровая действительность вторглась в его мечты о мести и свободе. Зазвенели цепи, ружейные приклады застучали по каменному полу, солдаты с бранью и проклятиями вытащили Бенедетто и отвели его в камеру, где он должен был провести ночь.
Камера тускло освещалась одним фонарем, и при его свете корсиканец увидел, что все койки были уже заняты ранее прибывшими пересыльными. Бенедетто остановился в дверях, но тюремщик толкнул его вперед и грубо закричал:
— Ложись!
Бенедетто с недоумением огляделся и покорно спросил:
— Где мне лечь? Нигде нет места!
— Где знаешь: уж не прикажешь ли приготовить для тебя особую постель, потому что ты был князем? — грубо возразил тюремщик.
— Так я буду стоять,— упрямо сказал Бенедетто.
— Стой себе, пожалуй, но только не шуми — шуметь не позволяется. Сними сапоги и не шевелись.
В это мгновение на одной из коек поднялась гладко выбритая голова, и грубый голос произнес: