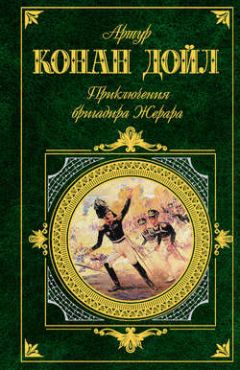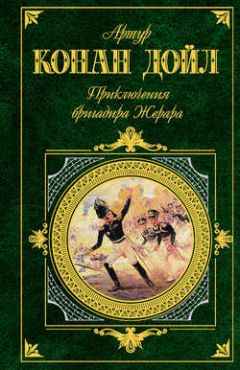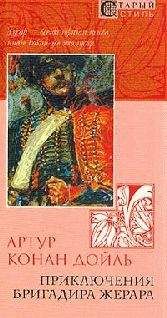Все это время я скакал по лугу, пересеченному широкими канавами. Некоторые из них были не менее четырнадцати-пятнадцати футов в ширину. Каждый раз, когда я перепрыгивал через них, сердце замирало в груди от ужаса: неудачный прыжок мог оказаться последним. Но кто бы ни был тот человек, который выбирал лошадей для императора, он выполнял свою работу на отлично. Кроме случая, когда араб заартачился на высоком берегу Самбры, конь ни разу не подвел меня. Он с легкостью преодолевал препятствия, однако мы никак не могли оторваться от этих чертовых пруссаков. Каждый раз, очутившись по другую сторону канала, я с надеждой бросал взгляд назад, лишь для того, чтобы увидеть Штейна, который летел на своем белоногом жеребце так же легко, как я. Штейн был моим врагом, но я проникся к нему уважением за то, как он вел себя в тот день.
Снова и снова я мысленно измерял дистанцию между Штейном и следующим за ним всадником. Поначалу я питал надежды, что смогу развернуть коня и зарубить Штейна, как до этого гусара, пока товарищи не пришли ему на помощь. Но остальные пруссаки не отставали. Я подумал, что если Штейн такой же хороший рубака, как всадник, то мне понадобится гораздо больше времени, чтобы убить его. В этом случае подоспеют другие, и моя песенка спета. Самым разумным казалось продолжить скачку.
Дорога, окаймленная по обе стороны тополями, пересекала луг с востока на запад. По ней я смогу добраться до огромного пыльного облака, поднятого отступающей французской армией. Я повернул лошадь и поскакал по дороге. Справа впереди показался небольшой домик. Ветка вместо вывески указывала на то, что это таверна. Неподалеку толпилось несколько крестьян, но мне нечего было их опасаться. Красный цвет мелькнувшего мундира напугал меня гораздо больше. Судя по всему, сюда успели добраться англичане. Однако я не мог остановить коня, мне некуда было свернуть. Моим единственным шансом было пришпорить коня и промчаться мимо галопом. Вражеских солдат нигде не было видно. Очевидно, эти люди были мародерами или дезертирами, а следовательно, они не опасны. Приблизившись, я увидел двух англичан, сидевших на лавке у входной двери. Когда они, пошатываясь, встали на ноги, то стало очевидно, что оба безнадежно пьяны. Один, покачиваясь, вышел на середину дороги.
– Это Бони! Помоги мне, это Бони! – заорал он и выставил вперед руки, намереваясь схватить меня.
Но, к своему счастью, оказался настолько пьян, что проковылял несколько шагов и свалился лицом в землю. Второй оказался намного опаснее. Он побежал в таверну. Промчавшись мимо, я заметил, как он выскочил с мушкетом в руках. Англичанин присел на одно колено, а я крепко прижался к шее коня. Одиночный выстрел, произведенный пруссаком или австрийцем, не представлял особой опасности, но британцы славились на всю Европу как непревзойденные стрелки. Английский солдат, несмотря на то что был мертвецки пьян, уверенно приложил приклад к плечу. Я услышал треск выстрела. Конь инстинктивно отпрыгнул в сторону. Подобный прыжок выбил бы из седла любого наездника, кроме меня. Поначалу мне показалось, что пуля насквозь пронзила коня, но, оглянувшись назад, увидел лишь тонкую струйку крови у него на задней ноге. Англичанин тем временем загнал в ствол еще один патрон. Но не успел он прицелиться, как мы оказались за пределами досягаемости. Англичане были пехотинцами и не могли присоединиться к погоне, но я слышал, как они улюлюкали, словно преследовали лисицу на охоте. Крестьяне тоже кричали и бежали к дороге с поднятыми палками. Отовсюду раздавались вопли, преследователи окружали меня со всех сторон. Подумать только: великого императора гонят по полям, как испуганную дичь! Я испытал непреодолимое желание насадить кого-либо из преследователей на кончик палаша.
Но я чувствовал, что приближаюсь к концу своего пути. Я сделал все, что было в человеческих силах. Некоторые скажут, что превзошел обычного смертного. Однако сейчас я добрался до последней точки. Кони моих преследователей устали, но и мой абсолютно выбился из сил, к тому же был ранен. Он истекал кровью: за нами по дороге тянулась тонкая красная струя. Конь скакал уже не так быстро. Рано или поздно он упадет подо мной. Я оглянулся назад. Пять человек неотвратимо скакали следом: впереди – Штейн, на расстоянии сотни ярдов от него – улан, за ним – трое остальных.
Штейн выхватил саблю и стал размахивать ею. Я же твердо решил не сдаваться в плен. Напротив, прикинул в уме, скольких пруссаков смогу забрать с собой на тот свет. В этот величайший момент все совершенные мною подвиги предстали перед глазами. Я почувствовал, что последний подвиг станет достойным завершением столь славной карьеры. Моя смерть станет тяжелейшим ударом для тех, кто любил меня: для моей матушки, моих гусар, для многих, чьи имена останутся неназванными. Но все они будут помнить меня, сумевшего завоевать честь и славу. Я был уверен, что горе в их сердцах сменится гордостью, когда они узнают, как я сражался в свой последний день. Поэтому по мере того, как мой конь все сильнее прихрамывал, я становился еще более непреклонным. Обнажив палаш, который взял у умирающего кирасира, я сильнее сжал зубы в предвкушении последнего боя. Моя рука уже потянула уздечку, чтобы развернуть коня. Я опасался, что еще немного – и араб упадет, тогда мне пешему придется сражаться с пятью всадниками. Вдруг я уловил нечто такое, что вновь наполнило сердце надеждой. Крик радости сорвался с моих губ.
За небольшой рощицей виднелся шпиль деревенской церквушки. Двух настолько похожих шпилей не существовало на свете. В этот когда-то попала молния. Его край обвалился, поэтому шпиль имел фантастическую искривленную форму. Я видел его всего лишь два дня назад. Передо мной стояла церковь деревушки Госсельи. Но не надежда попасть в деревушку заставила ликовать мое сердце. Я знал, что всего лишь на расстоянии полумили отсюда на ферме Сент-Онэ, чей фронтон{176} был хорошо виден, расположились на отдых гусары Конфланского полка. Именно здесь я приказал капитану Сабатье поджидать меня. Они были здесь – мои юные соратники. Только бы успеть добраться до них! С каждым прыжком моя лошадь становилась все слабее. А топот копыт за спиной становился все громче. Я слышал гортанные немецкие проклятия совсем рядом. Пистолетная пуля пронеслась у самого уха. Отчаянно пришпоривая коня, хлестая его по бокам саблей плашмя, я заставил араба скакать как можно быстрее. Вот и открытые ворота! Я увидел сверкание стали: голова лошади Штейна очутилась на расстоянии десяти ярдов от меня.
– Ко мне, друзья, ко мне! – завопил я.
Со всех сторон раздался шум, словно рой разъяренных пчел вылетел из улья. В эту минуту замечательный белый араб замертво свалился подо мной, а я вылетел из седла прямо на выложенный камнем двор. Больше я ничего не помню…