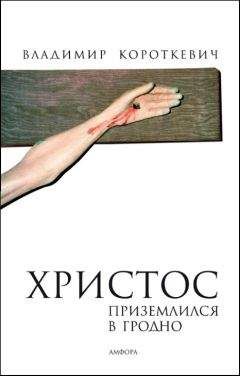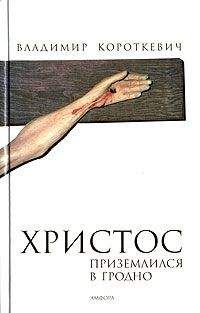– Что же мне теперь делать? – почти шёпотом спросила она. – Не знаю. Да и разве не всё равно? Может, Ратма? Может, кто-то ещё? Никого нет. Распятий этих понатыкано на дороге… Вон ещё одно… Боже, это же как судьба. Ты, значит, туда? Царство Божье устраивать?
– Попробую, – глухо произнес он.
– И за ней?
– Если она жива – и за ней.
– Ослеплённый, – смежила она веки. – Святой дурень. Юрась, ты что, вот этого захотел? – Она показала на распятие. – Дыбы? Плахи? Ты знаешь, чем это кончается?
– Знаю. Но не уйду. В первый раз вижу, что они достойны. Верят во что-то лучшее, чем сами они сегодня. Не могу обмануть эту веру.
– Пропадёшь. Её не отдадут. И царства твоего не будет.
– Так.
– И летишь, бескрылый, безоружный, как бабочка на огонь.
– На огонь.
– И на смерть. И царства твоего не будет.
– Надо же кому-то попробовать. В первый раз попробовать. Ради них – стоит.
– Убежим, – голос её колотился в горле. – У-бежим, одержимый. Не ради себя. Чтоб жил… Спрячемся. Я не могу, чтоб ты… Боже, ты же по-гиб-нешь!
Она зарыдала. Он никогда не слышал, чтобы так рыдали женщины. Глухо, безнадежно, сдерживаясь изо всех сил и не в состоянии сдержаться. Так иногда, раз или два в жизни, плачут мужчины, утратив последнее счастье, попав в последнюю беду.
Только тут он понял всё, что читал в людских глазах, и протянул руки.
– Руки прочь! – со смертельной обидой за себя и за него прорыдала она.
Христос глядел в её глаза.
– Ну так… так… так… та-ак!
Он опустил глаза. Он не знал, что сказать. Да и что скажешь в таком случае? Лучше умереть, чем отказать великому. Воистину великому.
– Я не знаю, – наконец проговорил он. – Но ты не ходи. Мир страшен. Каждый человек может очень понадобиться другому.
– Я не брошу тебя.
Христос глядел на её лицо и не узнавал его.
– Я пойду за тобой незаметно. – Она накинула на голову капюшон. – Просто потому, что не могу иначе. Пойду до конца. Всё равно какого. Возможно, ты умрёшь, безоружный, бескрылый. Я не знаю, как помочь тебе. Но и покинуть не могу.
И, окончательно спрятав лицо, спрыгнула с коня, бросилась назад.
– Куда ты?! – во внезапном отчаянии закричал он.
Он хотел остановить коня, развернуться, броситься. Но плыли и плыли толпы, теснили, тянули за собой. Конь не мог плыть против них. Медленно удалялся капюшон, его закрывали плечи, щиты, хоругви, такие же капюшоны.
– Стой! Ради Бога, стой!
Но течение тысяч несло его, оттирало. Вот уже с трудом можно было различить её капюшон среди десятков таких же. Вот уже путаешь его с ними, с другими.
Всё.
И так она исчезла с глаз Юрася.
В ту предпоследнюю ночь они стали станом вокруг одинокой хаты. Обычно Христос отказывался занимать жильё, спал у костра, вместе со всеми, а тут почему-то согласился.
…Вокруг хаты пылало море огней. И по этому морю плыло к хате десять тёмных теней. Апостолы.
– Не нравится мне это, – бегал глазами Пётр. – Мужичьё. Жареным пахнет. Пора, хлопцы, навострять лыжи.
– А Иуда опять последние деньги бабам раздал, что мужей сюда привели. – Трагическая маска Варфоломея вздрагивала, голос скрипел. – А нам бы они – ого! Пока старым не займёмся.
– Ты… эва… не забыл? – спросил у Фаддея Филипп.
– Н-не-е, – усмехнулась голова в миске. – Заберу тебя. Ты будешь на голове доски ломать, а я фокусы показывать.
– А нам с тобою, Ладысь, разве что под мост с кистенём, – крякнул Иаков. – На двуногих осетров.
Худой, похожий на девушку, Иоанн улыбнулся приоткрытым, как у юродивого, ртом:
– Не злу наследуй, брат мой, но добру.
Пётр плюнул:
– Зло, это когда у меня украдут или жену уведут, а если я у кого – это добро. Напрасно мы ссорились с вами тогда на озере. Что, возьмёте меня да Андрея с вами? А то тут, вишь, лёгкая жизнь кончается, да и худую можно потерять.
– Ладно, – согласился Иаков.
Они зашли в брошенную хату почти одновременно с Раввуни и Богданом, подоспевшими с другой стороны. На голом столе горела одинокая свечка. Братчик сидел в красном углу, уронив голову на ладони.
Поднял её. И без того неестественно большие глаза словно ещё увеличились.
– Вот что, – начал Пётр. – Там, в яре, как раз тринадцать коней.
– Чьих-то коней, – уточнил цыганистый Симон Канонит.
– Исчезнем, – предложил Пётр. – Бросим это.
– Ну вот, – вздохнул Христос. – Пётр – это камень. Попробуй, сотвори что-либо на таком камне.
Тумаш снимал со свечки пальцами нагар. Тени скакали по лицу, по залихватским усам, по устам любителя выпить и закусить.
– Я не пойду, – сообщил Тумаш. И растолковал не слишком разумно: – Вы тут все хамы, а у меня – честь.
Матфей глянул на море огней за окном и подхватился:
– Ну, так мы пойдём. Мытарем оно поспокойней. Я ещё чудес хотел, дурень. Прости нам долги наши. Сроду мы не платили их. – И вдруг крупные жёсткие морщины у рта сложились в алчную, просяще-наглую усмешку. – Только… Евангелие своё пускай Иуда нам отдаст.
– Ты ж неграмотный! – вскричал Раввуни.
– Неважно. Зато я евангелист. Мы вот с Иоанном его разделим, подчистим, где опасно, и ладно. А Иуде Евангелие нельзя. Не положено.
Раввуни показал ему шиш.
У Иоанна Алфеева часто и независимо от его воли менялось настроение. Вот и тут ему стало жаль Христа.
– А я бы с тобою, Боже, пошёл. Только чтоб без оружия этого. Мы бы с тобой удалились от мира да духовные стихи писали.
– Не прячься в башне из слоновой кости, – сказал Христос. – Быстрей найдут.
Всем было неловко. И видимо, чтобы избыть эту неловкость, все начали выказывать недовольство, изрекать скверные пророчества на будущее. Поднялся гомон, затем крик. Матфей лез к Иуде и вопил нечто маловразумительное бессмысленно-страстным голосом. Тот голосил в ответ. Ссорились и горланили остальные.
От событий сегодняшнего дня и этого крика Братчик чуть не обезумел. Встал над столом:
– Молчать!
Затрясся от удара кулаком стол. И тогда Фома, воодушевлённый тем, что можно показать себя, с лязгом вытащил меч и рубанул им по столешнице. Стол развалился пополам. Сделалось тихо и темно. Раввуни нашарил свечку, выбил кресалом искру, зажёг.
Апостолы, сжавшись, смотрели на Христа.
– Вот что, – объявил он. – Я это не ради себя. Нужны вы мне очень. Я это ради вас, святые души. Шкодили – замаливайте грехи. Кто уйдёт отсюда – отдам мужикам. Вот так.
– Вот так, – эхом повторил Тумаш.
– Вот так, – подхватил Раввуни.
Апостолы виновато, как побитые, переглянулись.
– А что, – встрепенулся Симон. – И мне хочется в Гродно войти. Поглядеть, как там, кони там какие. Я уж было и разучился…